Вопрос четвертый Почему?
Вопрос четвертый
Почему?
Не представил ли другой философ девятнадцатого века, немец Фридрих Ницше, совсем другую концепцию основополагающего вопроса, когда спросил: «Почему я такой мудрый?» Или это был вопрос Декарта, только заданный на немецкий, а не на французский манер? Или вопрос Ницше – версия девятнадцатого века вопроса Декарта семнадцатого столетия? В какой степени Декарт был французом? Почему все самые важные его работы были написаны после того, как он осел в Голландии? Может, Голландия сделала его таким? И опять же, почему рожденный в Германии Ницше настаивал, что он самом деле поляк?
Ответил ли Ницше на свой вопрос? Если нет, то не потому ли, что был настолько мудр? Не задал ли он много больше вопросов, чем дал ответов? Не начал ли он свою автобиографию, «Ecce Homo», вопросом, кто он такой? И автобиография ли это, если он так и не ответил даже на этот вопрос?
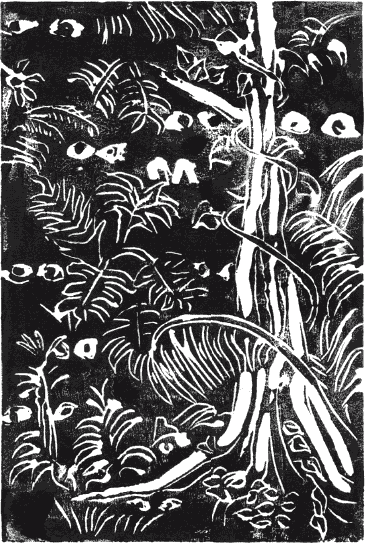
«Почему я думаю, что не одинок?»
Мог ведь он задать другой вопрос: почему я такой сложный? Мог ли этот вопрос быть прочитан разными способами, не все из которых оказались бы правильными? Может, тот факт, что в его фамилии на две согласные приходится всего одна гласная и, более того, пять согласных идут подряд[2], и делает Ницше сложным? Или из-за этого сложно всего лишь правильно писать его фамилию?
Не потому ли, что Ницше был философом, он задал так много вопросов и дал так мало ответов? Являются ли философия и религия двумя путями задавания вопросов? Или эти пути ведут в противоположные стороны? Почему Ницше, философ, так не любил религию? Ему не нравились ее вопросы или он просто презирал ее ответы? Не поэтому ли он написал: «Бог – необдуманный ответ»? И почему он продолжил, сказав, что Бог – это «образец бестактности по отношению к нам, мыслителям – по сути своей, грубый нам запрет: вы не должны думать!»?
Может ли человек с ограниченным количеством ответов иметь безграничное множество вопросов? Почему, к примеру, Ницше спросил: «Разве когда-нибудь простудилась женщина, умевшая хорошо одеться?» И почему человек, задававший так много вопросов, настаивал, что ему не нужны ответы? Почему он сказал: «Есть много того, чего я не хочу знать»?
Знаменательно ли, что большинство историков пришло к выводу: Гитлер лгал, когда говорил, что читал Ницше, в отличие от Ричарда Никсона, который действительно его читал?
Почему Ницше бесконечно спрашивал: «Меня поняли?» Знал ли он, что мыслителя, отринувшего Бога, религию и мораль – «философствующего молотом», как он сам это называл, – можно будет легко использовать во зло? Когда он писал «Однажды с моим именем будут ассоциироваться воспоминания о чем-то ужасном – о кризисе, равного которому не бывало на земле, о глубочайшем противоречии совести», предвидел ли он Гитлера и нацистскую резню, проходящую под цитаты из его сочинений? Справедливо ли это? Можно ли винить Карла Маркса за Иосифа Сталина? Можно ли винить Адама Смита за баронов-разбойников? Можно ли призвать Джорджа Вашингтона к ответу за Джорджа У. Буша? Если после прочтения этой книги кто-нибудь начнет сводить всех с ума, ограничивая все общение вопросами и никогда не давая ответов, будет ли в этом моя вина? Можно ли винить за неправильное использование идеи ее автора? Можно ли винить вопрос за неверный ответ?
Если важно задавать вопросы, то столь ли важно отвечать на них? Нет ли у задавания вопросов собственной ценности? Но есть ли вопросы, которых не стоит задавать? А если их задают, всегда ли стоит на них отвечать? Не является ли брак теми взаимоотношениями, при которых вопросы иногда не должны задаваться или хотя бы не должны получать ответов? В фильме 1942 года «Касабланка» Пол Хейнрейд спрашивает свою жену, Ингрид Бергман: «Дорогая, тебе было одиноко, когда я был в концентрационном лагере?» – не замечательный ли это пример вопроса, которого не стоит задавать?
Как объяснял немецкий философ девятнадцатого века Артур Шопенгауэр тот факт, что природа никогда не дает ответов на наши вопросы? «Может ли причина ее отказа отвечать быть в чем-либо еще, кроме того, что мы задаем неправильные вопросы?» Может, именно поэтому некоторые вопросы никогда не получают ответов?
Всегда ли вопрос – поиск ответа? Не задают ли иногда писатели самые очевидные вопросы, отправляя читателя искать ответ, который сами уже знают? Не этим ли занимался Жан-Жак Руссо – великий любитель вопросов, – когда спрашивал: «В темницах живут спокойно, но значит ли это, что в темницах хорошо?» И не этим ли занималась в 1831 году рабыня из Вест-Индии Мэри Принс, когда диктовала и публиковала свои размышления о рабстве, чтобы народ Англии мог наконец-то услышать о рабстве от раба? У нее не было никаких сомнений в своей оценке рабства, так для чего тогда она задавала следующие вопросы?
«Как могут рабы быть счастливы, если их взнуздали и погоняют кнутом? Если они обесчещены и считаются не более чем животными? Если их отрывают от матерей, и отцов, и детей, и сестер и продают как скот? И счастье ли это для полевого надсмотрщика – бросить на землю его жену, или сестру, или ребенка, раздеть их и пороть таким постыдным образом?»
Что должно произойти, когда читатель попытается ответить на такие вопросы? Как хорошо Мэри Принс, не умевшая написать ни единого слова, умела использовать вопросы, понимала силу слова «почему»? Почему слово «почему» так часто используется в борьбе с идеей рабства? Может ли «почему» быть ироническим, как в поэме «Жалоба раба» гаитянского поэта девятнадцатого века Массийона Квакоу, когда он спрашивает: «Почему я негр? О, почему я чернокожий?» И может ли оно также быть, как показала Мэри Принс, вызывающе риторическим, как в поэме «Гетто» гваделупского поэта двадцатого века Ги Тирольяна:
«Почему я должен ограничить себя
Образом,
Который они хотели бы мне навязать?»

«Понятнее ли я этой картины?»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Почему многообразие; почему единство?
Почему многообразие; почему единство? Общественное бытие отражается общественным сознанием в различных формах. Такое многообразие обусловлено сложностью объекта познания окружающего нас мира, который не может быть сколько-нибудь достаточно познан в единой форме.
I. Вопрос о смысле вообще и вопрос о смысле жизни
I. Вопрос о смысле вообще и вопрос о смысле жизни Попытке ответить на вопрос о смысле жизни должна предшествовать ясная и точная его постановка. Мы должны прежде всего сказать, что мы разумеем под тем «смыслом», о котором мы спрашиваем.Спрашивать о смысле – значит
ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ
ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ Четвертый путь — это путь айда-йоги. Он схожий с путём йоги, но в то же время у него есть свои особенности.Как йоги, айда-йоги изучают то, что может быть изучено. Вообще, нет средства познать больше, чем путем обычной йоги. Но на Востоке существует обычай: если
ЧЕТВЕРТЫЙ МОМЕНТ
ЧЕТВЕРТЫЙ МОМЕНТ СУЖДЕНИЯ ВКУСА ПО МОДАЛЬНОСТИ БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ К
§ 9. Два значения «фюсис» у Аристотеля. Вопрос о сущем в целом и вопрос о существе (бытии) сущего как двойное направление постановки вопросов πρώτη φιλοσοφία («первой философии»)
§ 9. Два значения «фюсис» у Аристотеля. Вопрос о сущем в целом и вопрос о существе (бытии) сущего как двойное направление постановки вопросов ????? ????????? («первой философии») Мы бросим лишь беглый взгляд на ту стадию в развитии античного философствования, когда оно достигло
§ 49. Методический вопрос о возможности самоперемещения (Sichversetzenkönnen ) в другое сущее (животное, камень, человека) как вопрос о способе бытия этого сущего
§ 49. Методический вопрос о возможности самоперемещения (Sichversetzenk?nnen) в другое сущее (животное, камень, человека) как вопрос о способе бытия этого сущего Итак, нам надо разъяснить, в каком отношении животное находится ко всему перечисленному и как это перечисленное, к
§ 52. Вопрос о существе органа как вопрос о возможностном характере мочи (das Können) животного. Пригодность средства как готовность для чего-то; пригодность органа как способность на что-то
§ 52. Вопрос о существе органа как вопрос о возможностном характере мочи (das K?nnen) животного. Пригодность средства как готовность для чего-то; пригодность органа как способность на что-то Но — чтобы спросить конкретно — в какой мере орган не является орудием? В какой мере он
ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ
ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ Полиинний. Отверстие матки никогда не скажет довольно, очевидно, этим подразумевается: материя (каковая обозначена этими словами), воспринимая формы, никогда не насыщается. Итак, поскольку никого другого нет в этом Лицее, или, скорее, Антилицее, один,
ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ
ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ Филотей. Бесконечные миры, следовательно, существуют не таким способом, каким, по ложному мнению, составлена эта Земля, якобы окруженная столькими сферами, из которых одни содержат по одной звезде, а другие – бесчисленное количество звезд; ведь
Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития
Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития 1Почему я стал символистом. На это ответят нижеследующие разъяснения мои.Но прежде всего должен отметить основную тему символизма в себе. Я различаю себя в
84. И все-таки почему возникает вопрос о начале?
84. И все-таки почему возникает вопрос о начале? Просто ли здесь дело в любопытстве, любознательности, детской наивности или взрослой пытливости? Как понять, что философское вопрошание о смысле не тождественно научному вопросу о происхождении и религиозному – о творении.
85. Почему судьба человека никогда еще не подпадала под вопрос?
85. Почему судьба человека никогда еще не подпадала под вопрос? Всегда есть засада и преграда на пути постановки философского вопроса о всеобщей судьбе человека. С одной стороны, мешает общий безликий вопрос об истории, в рамках которого и решается вопрос о человеке.
40. Этим объясняется, почему так быстро формируются великие полководцы, почему быть полководцем не означает быть ученым
40. Этим объясняется, почему так быстро формируются великие полководцы, почему быть полководцем не означает быть ученым В самом деле, этот результат нашего рассмотрения является настолько необходимым, что всякий иной должен был бы вызывать у нас подозрение в его
Семинар четвертый
Семинар четвертый Текст IV. Взаимообусловленное возникновение[68] (Четвертая проповедь) Так я слышал. В то время Господь пребывал в Урувеле. Он сидел близ берега реки Наранджара, у подножья Древа Бодхи. Теперь, став Совершенно Пробужденным[69], он уже семь дней сидит в одной и