А. К. Дживелегов. НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ
А. К. Дживелегов. НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ
Doloroso Machiavelli Maturava il pio desir… G. Carducci
Чистую вынашивал мечту Макиавелли скорбный. Дж. Кардуччи
I
Едва ли случайно, что мы не знаем буквально ничего о молодости Макиавелли. В 1498 году, двадцатидевятилетним зрелым человеком, поступил он на службу республики. До этого он ничего не писал. До этого он нигде не выступал. И до такой степени сразу в своих служебных донесениях и в неслужебных писаниях он обретает манеру обстоятельного чиновника и язык опытного литератора, что начинает казаться, будто ничем другим в жизни он так и не был.
А молодым вообще не был никогда. Представить себе Макиавелли юным, с гибким телом, со свежими красками на лице, с искрящимися глазами, с беззаботным смехом, всегда готовым на любую сумасбродную проделку, – необыкновенно трудно. Его единственный, по-видимому не фантастический, портрет[233] показывает его совсем другим.
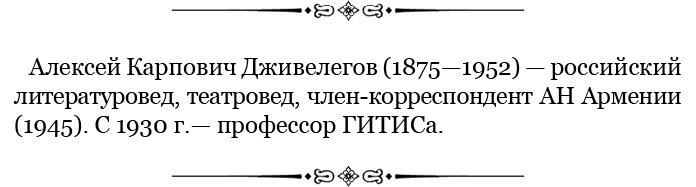
Бюст костлявого, чуть сгорбленного человека. Лицо худое. Плохо выбритые, впалые щеки. Утомленные глаза сидят глубоко, смотрят рассеянно и беспокойно, но в них много затаенной думы, и они способны загораться порывами решимости и энергии. Много думы и под высоким морщинистым лбом, лысеющим спереди зализами. Рот большой, окружен бесчисленными складками, в которых прячутся большие и малые душевные боли, тоска, разочарование.
Губы чувственные; если на них заиграет улыбка, она будет насмешливая, недоверчивая, злая, циничная, едва ли часто добродушная. Hoc – длинный, крючковатый, с тонким висящим концом. Голова мыслителя и человека дела, невеселого эпикурейца, Мефистофеля в миноре. На гравюре нет красок, и так становится жалко, что лицо одного из величайших людей Италии и Европы не увековечила кисть большого мастера: сколько их было кругом него во все моменты его жизни!
Каков был Макиавелли в пожилые годы, таков должен был быть и в молодости. Знакомясь с его жизнью и с его произведениями, особенно с самыми интимными, с его замечательными письмами, нельзя отделаться от одного впечатления. На протяжении тридцати лет, что мы его знаем, всегда, при всех обстоятельствах – в делах, в творчестве, в развлечениях, в моменты серьезные и радостные, – сидело в нем что-то больное, не растворяющийся ни при каких условиях осадок горечи. Откуда он?
Момент поступления на службу делит жизнь Макиавелли на две почти равные половины. Вторая известна нам хорошо. Первую мы не знаем совсем, а знаем только то, что служило ей фоном. Бурные были времена, и в то же время самые блестящие в истории его родного города. В 1478 году, девятилетним мальчуганом, Никколо видел, как обезумевший народ гонялся по улицам за членами семьи Пацци и их сторонниками, как висели в окнах Дворца Синьории архиепископ Сальвиати в лиловой рясе, Франческо Пацци совсем голый, с окровавленной ногою, и трое Якопо: два Сальвиати, родственники архиепископа, и один Браччолини, сын Поджо.
Четвертый Якопо, Пацци, повешенный тоже спустя два дня и похороненный в Санта Кроче, был удален из церкви и закопан где-то под стенами. Его вырыли из второй могилы, и мальчишки, захлестнув труп за шею веревкою, волокли его по городу, подтащили к собственному его дому, громко крича, чтобы отворили хозяину. Потом бросили в Арно. Маленький Никколо если и не был свидетелем всего этого, то не мог не слышать разговоров. Порукою необыкновенная даже в «Истории Флоренции» пластичность рассказа о заговоре Пацци[234].
Подрастая, Никколо наблюдал режим Лоренцо, необыкновенный блеск культуры и быта: празднества, турниры, процессии, карнавальные шествия с мифологическими фигурами, в устройстве которых соперничали Сандро Боттичелли и Пьеро ди Козимо. Он ходил смотреть в Санта Мариа Новелла только что открытые, сверкавшие свежими красками фрески Гирландайо и слушал около них разговоры о том, как похожи изображенные художником Анджело Полициано, Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино[235].
Наблюдательность понемногу становилась острее, и он начинал понимать, что под этим блеском уже кое-где проступают признаки упадка, что торговля и промышленность больше не поднимаются, а идут к уклону, что тирания Лоренцо жестче, чем тирания его деда, что республика крепко зажата в кулак, а свобода существует только в льстивых панегириках, расточаемых Лоренцо гуманистами. И чем лучше понимал это Никколо, тем меньше нравились ему пышные процессии и тем меньше хотелось ему веселиться под звуки карнавальных песен.

Ему было двадцать три года, когда смерть Лоренцо резко покончила с этим обманчивым покоем. При Пьеро Медичи флорентийская тирания, поглупевшая и обнаглевшая, стала быстро катиться к пропасти. Не успело успокоиться ликование, вызванное падением Пьеро, как в город явились французы.
Диалог между Карлом VIII и Пьеро Каппони: «Я прикажу ударить в барабаны». – «А мы ударим в колокола», – короткий, как звон скрестившихся клинков, заставил город целые дни трепетать от тревоги и ярости. Но король испугался, и французские барабаны вместо атаки забили отступление. Никколо переживал со всеми эту встряску. И все думал.
Потом пришло царство монаха. Революционные пророчества гремели под куполом Брунеллеско. Конституция переделывалась по указаниям библейских текстов и благочестивых видений. Очистительные костры зловещим заревом освещали городские площади. Вериги и власяница истязали под нарядами тела женщин. Савонарола попал в круг зрения Никколо, когда его дела решительно пошли хуже. И не покорил его, как других.
Никколо ни на одну минуту не был увлечен бурным, экстатическим красноречием его проповедей и был даже непрочь смотреть на него как на вульгарного обманщика[236]. Он не мог не видеть костра, на котором сгорел неистовый пророк, и если стоял не очень далеко, видел и то, как сверху «падал дождь из крови и внутренностей». Когда бросили в Арно пpax Савонаролы, Никколо поступил на службу к республике, спешно секуляризировавшейся под успокоенные благословения Папы Александра VI.
Поводов для размышления было достаточно, а голова – хорошая. Не хватало только настоящей подготовки. В семье не было избытка, и образование Никколо получил самое суммарное. Греческого он, по-видимому, все-таки не знал[237], а в латинском не мог угнаться за матерыми гуманистами.
На юридическом факультете перенесенного во Флоренцию Пизанского студио, где учился Гвиччардини, ему побывать не пришлось. Он не имел даже нотариального стажа. Его учитель друг Адриани носил классическое имя – Марчелло Вирджилио, но совсем не был для него тем, чем для Данте его Вергилий. Он слегка учил его латыни и помог потом устроиться на службу.
Настоящею школою Никколо была флорентийская улица, этот удивительный организм, где формировалось столько больших умов. Дома он читал древних и Данте. Бродя по улице, получал среднее и высшее образование. И проходил курс политики. Ибо в Италии, а значит и во всем мире, не было города, где политику можно было бы изучать с большим успехом. У венецианцев опыта и умения политически рассуждать было, конечно, не меньше. Но в Венеции политика была уделом немногих: для большинства она находилась под строжайшим запретом.
Во Флоренции политиками были все. Только там можно было видеть на улице живые хранилища политического опыта, важные фигуры в разноцветных кафтанах и плащах, в капюшонах с длинными концами, обвивавшими шею и перекинутыми через плечо, носителей самых громких имен славного республиканского прошлого, модели Беноццо, Гирландайо, Филиппино. Они любили стоять на площадях перед большими церквами, торжественные, с серьезными, неулыбающимися лицами, со стиснутыми губами, которые словно боялись разомкнуться, чтобы не выдать тайну, с тихой скупой речью.
Не всегда во Флоренции политический опыт накапливался в спокойной обстановке, иногда его приходилось усваивать под звон мечей, под грохот разрушаемых зданий, под жуткое гудение набата, в дыму пожаров: среди заговоров и революций. А в мирное время политика сплеталась с весельем, ей вторили карнавальные песни и хороводные припевы. Политика пропитывала все. Макиавелли ею опьянялся.
И все-таки капля горечи отравляла его дух уже в молодости. Происхождение и способности открывали ему дорогу к широкой политической карьере: не было нужных связей. Для преуспевания в обществе он обладал всеми данными: не хватало средств. Успеху у женщин мешала несчастная наружность. А когда наконец удалось устроиться – поздно, в двадцать девять лет, – место было отнюдь не блестящее: наиболее доходные доставались по традиции людям с хорошим гуманистическим стажем.
В канцеляриях Дворца Синьории на лучших постах корпело над бумагами сколько угодно таких надутых, бездарных гуманистических павлинов. Никколо был принят в канцелярию Синьории – канцлером на месте Салютати, Бруни и Поджо сидел его учитель Адриани – и откомандирован в качестве секретаря в Коллегию десяти, ведавшую иностранными и военными делами. Должность хлопотливая, утомительная, требовавшая огромной работоспособности, быстрого, точного, красивого пера и совершенно исключительной физической неутомимости.
А вдобавок не давала ни достаточной самостоятельности, ни хорошего дохода, ни надежды выдвинуться. Где Никколо сел в 1498 году, после аутодафе Савонаролы, там и прижала его в 1512 медичийская реставрация. Когда новые хозяева Флоренции прогнали его с места, он ни деньгами, ни положением не был богаче, чем четырнадцатью годами раньше. А горечи накопилось много.
У секретаря Коллегии десяти были обязанности двух родов: он управлял канцелярией Коллегии и должен был исполнять дипломатические миссии, которые почему-либо считалось неудобным поручать аккредитованному послу, «оратору»[238] республики. Никколо не имел полномочий вести переговоры и решать вопросы[239]. Он должен был добиваться приема, разговаривать, убеждать, собирать сведения и о результатах доносить Десяти, или самой Синьории.
За четырнадцать лет таких поездок набралось около двух десятков. Никколо их не любил и должен был сильно морщиться, когда получал очередной наказ. Все они начинались более или менее одинаково. «Niccol?, tu anderai infino а…» Или: «Niccol?, tu cavalcherai in poste а…» Или: «Niccol?, tu cavalcherai in ogni celerita a trovare…» «Ты отправишься…», «Ты поедешь на почтовых…», «Ты поскачешь как можно скорее…», «Ты поедешь!», «Ты поскачешь!» – слова, которые, казалось, подчеркивали, что он человек маленький и подневольный.
Денег при этом отпускали ему в обрез, так что частенько приходилось приплачивать из собственного кармана, надоедать сослуживцам просьбами о присылке денег и обременять дипломатические донесения аналогичными постскриптумами. Купцы, правившие республикой, не любили раскошеливаться без крайней нужды. Между тем у Никколо расходы росли. Он женился, пошли дети. Требования представительства становились больше.
И хотелось не так скупо тратить на жизнь и на удовольствия: ибо Никколо – мы увидим – не был ни стоиком, ни аскетом. Средств решительно не хватало. Накопление опыта и коллекционирование политических наблюдений было единственной радостью, какую давала служба. А годы шли. Волос на голове становилось меньше, прибавлялись морщины на лбу, складки вокруг рта и горечь внутри.
В 1512 году разразилась катастрофа: сначала лишение службы, потом привлечение по делу о заговоре против Медичи, тюрьма, пытка веревкою. Потом – чистилище после ада – долгое прозябание в деревне, бесплодные попытки устроиться вновь и ощущение бесповоротно разбитой жизни. Ибо в глазах самого Макиавелли создание гениальных произведений было ничто по сравнению с тем, что ему не удалось вновь и по-настоящему выбиться на дорогу.
Горечи стало так много, что она превратилась в мрачный пессимизм.
Один из приятелей писал ему однажды: «Если бы я знал, куда обратиться с такой молитвою, я бы просил, чтобы скорее все беды этого мира свалились мне на голову, чем та, моровой язве подобная, отвратительная, гнилая (pestiferissimo e dispiatatissimo et putrefato) болезнь, которая зовется меланхолией и которая, я знаю, гнетет одного любимейшего нашего друга. Да избавит его от нее природа»[240].
Макиавелли это отлично чувствовал и знал, что от такой болезни нет лекарства. В одном из писем к Веттори[241], пересыпанном шутками, он вспомнил стихи Петрарки:
Per? se alcuna volta io rido e canto
Faccio perchе? non ho se non quest’una
Via da sfogare il mio angoscioso pianto
И если иногда смеюсь я иль пою,
То потому, что мне лишь этот путь остался,
Чтоб горькую слезу не показать свою[242].

II
Однажды, когда Макиавелли, находившемуся в командировке, грозила некая неприятность, Биаджо Бонаккорси, его приятель, служивший у него в канцелярии, в взволнованном письме сообщал ему обстоятельства дела и, рассказывая, как он старался ликвидировать инцидент, писал: «У вас так мало людей, которые хотели бы прийти к вам на помощь; я не знаю почему»[243].
Простодушный Биаджо поставил вопрос, который и сейчас еще не перестает интересовать всякого, кого интересует судьба Макиавелли. Действительно, почему никогда не имел Никколо настоящего друга, который готов бы был не то что чем-нибудь для него пожертвовать, а просто сделать для него что-то, требующее серьезных усилий?
Такие, как сам Биаджо или их общие приятели, Бартоломео Руффини и Агостино Веспуччи, конечно не в счет. Их связывали с Никколо канцелярия, интересы общей службы, зависимость от него, и близость их характеризуется больше непристойностями, которыми полна их переписка, чем настоящими душевными отношениями[244].
Он знал, что это – великие друзья на малые услуги, и не обольщал себя. После катастрофы 1512 года они, как тараканы, расползлись во все стороны, забились каждый в свою щель и бесследно исчезли. И именно теперь, когда для Никколо дружеская поддержка была по-настоящему вопросом существования, вокруг него образовалась пустота.
Остался один Франческо Веттори, его товарищ по миссии в Германию, в это время «оратор» Флоренции при курии Льва X. Он два года поддерживал с ним переписку, все кормил его обещаниями, но, имея все возможности, пальцем о палец не ударил, чтобы ему помочь. В конце 1517 года Никколо получил доступ в общество садов Ручеллаи. Молодежь образовала там вокруг больного Козимино Ручеллаи нечто вроде вольной академии[245]. Кто-то привел Никколо, и он очень скоро сделался душою кружка, потому что никто не умел лучше него поддерживать живую и содержательную беседу.
Молодежь была богатая и знатная, с большими связями: Дзаноби Буондельмонти, Филиппо деи Нерли, поэт Луиджи Аламанни, его тезка – кузен, философ Якопо Диачето, Баттиста делла Палла. Козимино был родственник Медичи, Филиппо – близкий им человек. Пока в 1522 году дело о новом заговоре не разбило кружка, члены его очень помогли Никколо. Именно они, по– видимому, выхлопотали ему заказ на «Историю Флоренции». Но их отношение к Никколо была не дружба, а почитание учениками учителя.
Около этого же времени Макиавелли сошелся с человеком очень крупным, родным ему по духу и равным по уму, вполне способным его понять, – с Франческо Гвиччардини. Однако и тут не было настоящей дружбы. Гвиччардини был важный сановник и большой барин, Макиавелли – бедный литератор и опальный чиновник. Гвиччардини очень ценил ум и талант Никколо, охотно принимал его советы и услуги, но Никколо ни разу не мог забыть, какое отделяло их друг от друга расстояние[246].
Таковы факты. Друзей Никколо не имел. Его не любили. Об этом свидетельствует современник, которому можно поверить, – Бенедетто Варки, историк. Рассказывая о смерти Никколо, Варки говорит[247]: «Причиной величайшей ненависти, которую питали к нему все, было, кроме того, что он был очень невоздержан на язык и жизнь вел не очень достойную, не приличествовавшую его положению, – сочинение под заглавием “Государь”[248]». Но, конечно, главная причина «ненависти» была не в том, что Макиавелли писал вещи, которые разным людям и по-разному не очень нравились.
Дело было в том, что Варки считал обстоятельством второстепенным: в личных свойствах Никколо. Такой, каким он был, для своей среды он был непонятен и потому неприятен. Его, не стесняясь, ругали за глаза. Верный Биаджо не раз сообщал ему об этом с сокрушением сердечным[249]. Что же делало его чужим среди своих?
Итальянская буржуазия не приходила в смущение от сложных натур. Наоборот, сложные натуры в ее глазах приближались к тому идеалу, который не так давно формулировали по ее заказу гуманисты, – к идеалу широко разностороннего человека, uomo universale. Но была некоторая особенная степень сложности, которую буржуазия переносила с трудом. Ее не пугали ни сильные страсти, ни самая дикая распущенность, если их прикрывала красивая маска.
Она прощала самую безнадежную моральную гниль, если при этом соблюдались какие-то необходимые условности. Гуманисты научились отлично приспособляться ко всем таким требованиям. За звонкие афоризмы, наполнявшие их диалоги о добродетели, им спускали все что угодно. Макиавелли наука эта не далась. Он не приспособлялся и ничего в себе не прикрашивал.
Во всяком буржуазном обществе царит кодекс конвенционального лицемерия. Тому, кто его не преступает, заранее готова амнистия за всякие грехи. Макиавелли шагал по нему, не разбирая, а иной раз и с умыслом топтал его аккуратные предписания. Он был не такой, как все, и не подходил ни под какие шаблоны.
Была в нем какая-то нарочитая, смущавшая самых близких прямолинейность, было ничем не прикрытое, рвавшееся наружу даже в самые тяжелые времена нежелание считаться с житейскими и гуманистическими мерками, были всегда готовые сарказмы на кончике языка, была раздражавшая всех угрюмость, манера хмуро называть вещи своими именами как раз тогда, когда это считалось особенно недопустимым.
Когда «Мандрагора» появилась на сцене, все смеялись: не смеяться было бы признаком дурного тона. Но то, что лица «Мандрагоры» были изображены как типы, а сюжет был разработан так, что в нем, как в малой капле воды, было представлено глубочайшее моральное падение буржуазного общества, раздражало. Сатира была более злая, чем допускала лицемерная условность.
Если его осуждали за дурной характер и пробовали хулить за то, что он выходит из рамок, он всем назло делал вдвое, не боясь клепать на себя, и выдумывал себе несуществующие недостатки сверх имеющихся. Гвиччардини – правда, ему одному, потому что он был уверен, что будет понят им до конца, – Никколо признавался с некоторым задором: «Уже много времени я никогда не говорю того, что думаю, и никогда не думаю того, что говорю, а если мне случится иной раз сказать правду, я прячу ее под таким количеством лжи, что трудно бывает до нее доискаться»[250].
И эта бравада, по поводу которой Гвиччардини мог бы заметить, что она вполне подпадает под действие софизма об Эпимениде-критянине, и все остальные, которые так бесили его общество, имели источником своим полупренебрежительный, полупессимистический взгляд Макиавелли на ближнего своего. В последней, восьмой песне неоконченного «Золотого осла» он вкладывает в уста свиньи грозно хрюкающую филиппику против человека, в которой разоблачаются недостатки, свойственные его природе.
И сатире «Осла» вторят общие положения больших трактатов: «люди злы и дают простор дурным качествам своей души всякий раз, когда для этого имеется у них легкая возможность»; «люди более наклонны ко злу, чем к добру»; «о людях решительно можно утверждать, что они неблагодарны, непостоянны, полны притворства, бегут от опасностей, жадны к наживе»[251].
Люди не стоят того, чтобы быть с ними искренними. Люди не стоят того, чтобы из-за них терпеть невзгоды и огорчения. Люди не стоят того, чтобы задумываться об их участи, когда им грозит несчастье. А если они провинились и заслуживают наказания, не стоит их жалеть. Когда Паоло Вителли, кондотьер на службе у Флоренции, руководивший осадою Пизы, стал вести себя подозрительно и в руки комиссаров республики попали уличающие его документы, Макиавелли был в числе тех, кто требовал его казни (1499), а когда она была совершена, громко ее оправдывал.
Когда Ареццо, летом 1501 года восставший и на некоторое время отложившийся от Флоренции, был приведен к покорности, Макиавелли в качестве секретаря [Коллегии] десяти писал комиссару с требованием выслать во Флоренцию главарей восстания: «Пусть их будет скорее двадцатью больше, чем одним меньше. И не задумывайся над тем, что опустеет город»[252].
Но когда он сам сделался игралищем судьбы, попал в тюрьму и «на плечах его остались следы шестикратной пытки веревкою», он призывал гром и молнию на головы всего остального человечества, лишь бы его оставили в покое. «Пусть несчастье постигнет других, только бы мне спасти свою шкуру. Пусть бросят врагам моим кого-нибудь на растерзание, только бы они перестали грызть меня»[253]. Он – отдельно. Он выше других.
Другие могут стать жертвою политического террора или судебной ошибки, он – нет. Мерки разные. Как могло такое пренебрежение не злить тех, кого оно поражало?
И они ему отплатили. В то время как целая куча людей, неизмеримо менее нужных, чем он, бездарные буквоеды, трухлявые насквозь, были окружены кольцом близких, обременены почестями и благами, Никколо прошел свой путь одинокой, безрадостной тенью, и богатая Флоренция, умевшая оплачивать труды, позволяла ему с огромной семьею на руках горько нуждаться и искать заработка в сомнительных подчас аферах[254].

III
Как это ни странно, в эпоху такой неслыханной распущенности людям больше, чем что-нибудь, не нравились беспорядки интимной жизни Макиавелли. Варки – мы видели – на это определенно указывал. Гвиччардини дружески его за это журил. Правда, Никколо с некоторой, быть может, надрывной развязностью не делал из этих вещей никакого секрета. А злились на него больше всего те, кто особенно усердно скрывал свои собственные делишки.
Переписка Макиавелли дает пеструю и красочную картину этой стороны его жизни. Когда он говорит о женщинах, чувствуется, что каждая, самая мимолетная связь чем-то его мучит. А он все-таки продолжает самым неразборчивым образом бросаться в новые приключения. Имена женщин мелькают в письмах постоянно. Все они – невысокого полета. То некая Янна, то другая, которую мы знаем не по имени, а только по месту жительства[255], то старая прачка в Вероне, которую подсунули ему в темноте и которая при свете оказалась до такой степени омерзительной, что его вырвало[256].
То куртизанка второй или третьей категории, Ричча, недостаточно к нему внимательная, то молоденькая девушка в деревне, в которую он пылко влюбился, но которая далеко не осталась его единственной утешительницею в изгнании[257]. То, наконец, Барбера, куртизанка более высокого ранга, имевшая связи и обладавшая сценическими талантами; она играет в его пьесах; он устраивает ей гастроли в провинции; на старости лет ездит за ней, занятый по горло серьезнейшими делами, как молодой воздыхатель, и смертельно о ней тоскует, когда она уезжает.
А приятели вдобавок вкрапливают ему в письма – латинские по этому специальному случаю – намеки, которые заставляют думать о каких-то серьезных уклонах Никколо в этих делах[258]. Возможно, конечно, что инсинуации «страдиотов» канцелярии – самое обыкновенное непристойное трепачество, всегда увлекавшее недоносков гуманизма. Канцелярия Дворца Синьории была ведь «вральней» (il bugiale) не хуже, чем ватиканская. Но переписка с Веттори свидетельствует, что Никколо умел смаковать, хотя тоже не без гримасы боли, рассказы, всего меньше добродетельные и доверху полные всякими уклонами[259].
Веттори жил барином в Риме. Дела у него были необременительные, денег достаточно, и единственной серьезной заботою его было ублажать свою грешную плоть. Блудил он по-сановному: степенно, добросовестно, неторопливо. А когда в его безмятежное житье вторгались разные деликатные казусы, он повергал их на суждение Макиавелли. Например. В его доме – двое приживальщиков: один, Джулиано Бранкаччи – большой поклонник женского пола, другой, Филиппо Казавеккиа – совсем наоборот.
Когда «оратора» посещает куртизанка, его знакомая, Филиппо ворчит, что это недостойно лица в его положении. Когда приходит – по делу, уверяет Веттори, – некий сер Сано, своеобразные вкусы которого составляют притчу во языцех в Риме, Флоренции и окрестностях, протесты Филиппо внезапно смолкают, но выходит из себя Джулиано и кричит, что Сано – uomo infame[260], что принимать его – позор. Веттори не знает, как ему быть[261].
Макиавелли в письме, великолепном по силе иронии и по меткости «воображаемых портретов», подсказывает посланнику выход, а в одном из ответных – это чудесная маленькая новелла, от которой не отказались бы ни Фиренцуола, ни Банделло – сам рассказывает, как некий единомышленник сера Сано и Филиппо «охотился за птицами» во Флоренции в темную ночь, как, наохотившись всласть, пытался заставить расплатиться за свое невинное удовольствие приятеля, такого же убежденного «птицелова», и как на этом попался[262]. А разве не новелла тоже – бытовая картинка, которая развертывается еще в двух письмах Веттори?[263]
К «оратору» пришла в гости соседка, вдова, очень почтенная, с двадцатилетней дочерью, с четырнадцатилетним сыном и с братом, очевидно, в качестве телохранителя. Бранкаччи немедленно стал таять около девушки, Филиппо присоседился к мальчику и, тяжело дыша, повел с ним разговор об его ученье. Посланник беседовал с родительницею, одним глазом следя за Филиппо, другим за Джулиано. Потом пошли к столу, и неизвестно, каким образом нашли бы примирение столь многочисленные противоречивые интересы, если бы не неожиданный приход других гостей.
Через несколько дней добродетельная матрона привела дочку к Веттори уже без телохранителя и, уходя, забыла ее. Девушка оказалась не строптивой. «Оратор» так ею увлекся, что испугался сам: как бы страсть не захватила его серьезно. Потребовалась диверсия. Он вызвал к себе своего племянника Пьеро. «Прежде мальчик приходил ко мне ужинать, когда хотел, теперь не ходит. Еще можно было бы, кажется, потушить этот огонь: он не разгорелся настолько, чтобы такая вода не могла его залить». Огонь – девушка, вода – Пьеро.
В доме посланника явно впали в уклон даже стихии.
Сидя в деревне, Никколо с любопытством следил, как развертываются эти разносторонне – во многих смыслах – запутанные извивы. На фоне густых римских удовольствий его собственные похождения с бесхитростными и необученными деревенскими прелестницами представлялись ему, может быть, элементарными и убогими, но замысловатый переплет, в котором копошились римские приятели, все-таки должен был вызывать у него не одну мефистофельскую улыбку.
Это видно по его ответным письмам. Он ничего не осуждает. Он только наблюдает. Как мудрец и как художник. Потому что человеческие документы этого рода его жадно интересуют. Веттори знал, что у Никколо встретит сочувствие и такое его сверхэпикурейское размышление: «Когда я отдаюсь мыслям, они часто нагоняют на меня меланхолию, а этого я терпеть не могу. Поневоле приходится думать о вещах приятных, а какая вещь может доставить большее удовольствие, когда думаешь о ней или делаешь ее, чем il fottere[264]»[265].
Самое удивительное то, что наряду со всем этим Никколо был очень привязан к семье. По-настоящему, по-хорошему. Несмотря на все грехи, он никогда от нее не отдалялся. Когда его дела шли плохо, его больше всего тяготило, что будет нуждаться его «команда» (la brigata). В письмах к детям, особенно более поздних, есть неподдельная теплота. Но Никколо не хочет давать ей воли: он не умеет быть нежным на словах. И мона Мариетта, жена его, по-видимому, эти вещи понимала хорошо.
У нее было много такта, беспутного мужа своего она принимала каким он был, очень его любила и была превосходной матерью. Из их многочисленного потомства пятеро выросли и пережили отца. Умер Никколо как добрый семьянин, на руках у жены и детей[266]. И ни из чего не видно, чтобы свои внесемейные увлечения Макиавелли считал чем-то непозволительным. Для него это – вещи другого ряда, и только. Таких distinguo[267] у него сколько угодно.
Он без всяких усилий переключал себя из одного настроения в другое. И не только когда дело касалось интимных отношений. В письмах первых, самых тяжелых лет после жизненного крушения 1512 года – целый калейдоскоп набросков, рисующих его срывы и взлеты.
«Томмазо сделался чудным, диким, раздражительным и скаредным до такой степени, что, когда вы вернетесь, вам будет казаться, что это другой человек. Я хочу рассказать вам, что у меня с ним вышло. На прошлой неделе он купил семь фунтов телятины и послал к Марионе. Потом ему стало казаться, что он истратил чересчур много, и, желая сложить на кого-нибудь часть издержек, он пустился клянчить себе компаньонов на обед.
Я пожалел его и пошел вместе с двумя другими, которых я же и сосватал. Когда обед кончился и стали рассчитываться, на долю каждого пришлось по четырнадцать сольди. При мне было только десять. Четыре я остался ему должен, и он каждый день их у меня требует. Еще вчера приставал он ко мне с этим на Ponte Vecchio… У Джулиано дель Гуанто умерла жена. Три или четыре дня он ходил, как оглушенный судак.
Потом встряхнулся и теперь хочет непременно жениться снова. Все вечера мы просиживаем на завалинке у дома Каппони и обсуждаем предстоящий брак. Граф Орландо все еще сходит с ума по одному мальчику известного сорта, и к нему нельзя подступиться. Донато дель Корно открыл другую лавочку»[268].

«Когда я бываю во Флоренции, я делю свое время между лавкою Донато и Риччей. И кажется мне, что я стал в тягость обоим. Один зовет меня несчастьем своей лавочки (impaccia-bottega), другая – несчастьем своего дома (impaccia-casa). Но и у него, и у нее я слыву за человека, способного дать хороший совет, и до сих пор эта репутация настолько мне помогала, что Донато позволяет мне погреться у камелька, а Ричча дает иной раз, правда украдкою, поцеловать себя.
Думаю, что эта милость продлится недолго, потому что и тут и там мне пришлось дать советы – и неудачно. Еще сегодня Ричча сказала мне, делая вид, что разговаривает со служанкою: “Ах, эти умные люди, эти умные люди! Не знаю, что у них в голове! Кажется мне, что им все видится шиворот-навыворот”»[269].
Ничего страшного, однако, не произошло. «Наш Донато вместе с приятельницей, о которой я вам как-то писал, – единственные два прибежища для моего суденышка, которое из-за непрекращающихся бурь осталось без руля и без ветрил (senza timone et senza vele)»[270].
Мещански-серое, не очень сытое, уязвляющее на каждом шагу самолюбие житье в городе беспрестанно гнало Никколо в деревню и заставляло подолгу там оставаться. У него было именьице, называвшееся Альбергаччо, в Перкуссине, неподалеку от Сан-Кашьяно, по дороге в Рим. Там, худо ли, хорошо ли, мог он жить с семьей не попрошайничая, имел кров, пищу и даже общество, правда, иной раз самое неожиданное.
«Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свои лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие– нибудь нелады с соседями или между собою. Из лесу я иду к фонтану, а оттуда – на птичью ловлю[271]. Под мышкою у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов – Тибулл, Овидий, другие.
Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время. Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, расспрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем вместе со всей командою (la brigata, то есть семья) то, что мое бедное поместье и малые мои достатки позволяют.
Пообедав, возвращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я застреваю до конца дня, играю с ними в крикку и в трик-трак[272]. За игрою вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств содрогается воздух. Мы воюем из-за каждого кватрино[273], и крики наши слышны в Сан-Кашьяно. Так, спутавшись с этими гнидами (pidocchi), я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно.
Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату (scrittoio). На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облекаюсь в одежды царственные и придворные (reali e curiali). Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден.
Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них»[274].
Это замечательное письмо, которое наряду с последней главою «Il Principe» обошло все хрестоматии, дает ключ ко многому. «Пусть судьба истопчет меня – я посмотрю, не станет ли ей стыдно». Какое отчаяние, какой безнадежный пессимизм в этих словах! Ведь все, что в характере и в поведении Никколо так злило и так оскорбляло современников, – все в этом крике души.
Жизнь била его, не давая вздохнуть. Впереди ничего. Так пусть же он будет еще хуже, чем о нем думают. Пусть все знают, до какого смрадного дна способен он докатиться. Пусть все морщатся от его сарказмов и мефистофельского его смеха. Пусть! «Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».
А способен ли кто-нибудь после глубочайшего падения взлететь к солнцу, «когда божественный глагол до слуха чуткого коснется»? Из грязной придорожной деревенской остерии, из москательной лавки Донато, из домика захудалой куртизанки способен ли кто-нибудь перенестись сразу в общество величайших мужей древности, упиваться «беседою» с ними, парить в недосягаемой высоте творческих экстазов? Только он. Этого не хотят видеть? Не хотят его признавать? Тем хуже! Прикосновение к тому вечному, что есть у древних, даст в нем выход родникам мысли, и, выпрямленный, он будет создавать ценности, равные античным.
Вот эта способность творить и действовать, преодолевая постоянные внутренние боли, не давая жизненным невзгодам задушить силы духа, торжествуя над мутящим мозг пессимизмом, способность творить и действовать, раскрывая до конца дары ума и воли, темперамента и энергии, и приобщила Макиавелли к сонму великих.

IV
Общество, которое не хотело понимать Макиавелли и отвергало его, было общество Возрождения. Никколо был его родным детищем, но капризным и своенравным: свет и тени в нем были распределены по-другому, чем у огромного большинства.
Культура Возрождения – организм сложный и противоречивый. Различные ее элементы сталкивались между собою с резкой непримиримостью, но в конце концов как-то все-таки уживались вместе.
Разложение быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, преклонение перед человеком и силами его духа, перед красотою в природе и в человеческих творениях, расцвет искусства и литературы, первые серьезные завоевания науки, разрыв с церковными идеалами и утверждение мирских – все это переплеталось между собою и сливалось в видение необычайного блеска, который ослеплял чужестранцев, а итальянцев наполнял гордостью и высокомерным сознанием превосходства над другими народами.
Простейшими и самыми естественными плодами, которые произрастали в этой атмосфере, были неутолимая тяга к соблазнам и прельщениям жизни, жадная хватка, напор, неудержимый рост хищных инстинктов: в идейном обрамлении, как у Пьетро Аретино, или в полной обнаженности, как у большинства. У Никколо всего этого было не меньше, чем у любого из современников. Но судьба не дала развернуться его аппетитам.
Его это очень сокрушало. В капитоло[275] «О случае» он грустно поет о том, как случай в виде женщины с копною волос спереди и с голым затылком промелькнул перед ним прежде, чем он успел его схватить, а в капитоло «О фортуне», написанном в пожилые годы, жалуется, что фортуна любит молодых и смелых, очевидно, не решаясь причислить себя и ко второй категории. Приходилось мириться, что судьба, выбирая любимцев, обошла его. Его ждала «иных восторгов глубина».
У него было нечто, чего не было ни у кого из избалованных утехами жизни: огромный, острый, безгранично смелый ум. Уму Макиавелли была свойственна некоторая рационалистичность, подчас сухость, но критическая его сила была поразительна. Анализ Макиавелли не знал никаких преград, проникал до дна, доискивался до последних начал.
Никто не умел с таким неподражаемым искусством изолировать вопрос и обнажать его имманентную сущность. Бесстрашие некоторых его логических операций не только смущало современников, но уже много веков бесит иезуитов, мучит моралистов и расстраивает нервы буржуазным ученым.
Легкой и безболезненной жертвой анализа Макиавелли сделалась очень скоро вера. Никколо был настоящим атеистом и по духу, и по научному своему облику. Библия и отцы Церкви были знакомы ему мало. Его начитанность была чисто мирская, а когда по ходу рассуждений ему приходилось касаться опасных вопросов, он, подобно Леонардо, прятал ироническую усмешку под гримасою благочестия[276].
Неверие в то время отнюдь не было чем-нибудь революционным, особенно если оно не провозглашалось в кричащих лозунгах. Католическая реакция еще не пришла, а религиозного пафоса в кругах образованных людей давно уже не было.
Придворные дамы, как Эмилия Пиа, умирали без исповеди, а пылкий республиканец Пьеро Паоло Босколи, беседуя перед казнью с друзьями и духовником, мучительно хотел умереть добрым христианином и умолял, чтобы у него «вынули из головы Брута»: ему никак не удавалось настроить себя благочестиво. Но атеизм у всех оставался делом личной совести. Ум Макиавелли был неспособен остановиться на этом.
У него сейчас же стройным рядом выстроились категории: личная вера; религия как общественное настроение, подлежащее учету и воздействию со стороны всякого политика; религия как сила, формирующая человеческую психологию; религиозная точка зрения, вторгающаяся в научное исследование; соприкосновение религии с моралью и их совместное пертурбирующее действие при научном анализе; Церковь; духовенство.
Атеизм не нарушал канона Возрождения, ибо канон Возрождения признавал безграничную свободу за критикующим умом. Но, признавая законность неверия, канон на этом останавливался. Критический анализ христианской религии ставил точку где-то очень близко. Макиавелли с хмурой усмешкой смахнул эту точку и пошел дальше.
Прежде всего он сделал одно очень важное сопоставление. Личная вера – бессмыслица. Но пока на эту точку зрения станет большинство, пройдет много времени. Религия как настроение широких народных масс будет существовать еще долго, и политик должен уметь этим настроением пользоваться, как пользовались им римляне. Мало того: религиозность в народе нужно поддерживать, потому что народом религиозным легче управлять[277]. Это – рассуждение реального политика.
Но нельзя закрывать глаза на то, что христианская религия, выдвигая на первый план заботу о делах потусторонних, полагая высшее благо в смирении и неприятии мира, заставляет никнуть дух, размягчает характер, принижает силу и энергию человека. Древние, наоборот, своей религией поднимали дух, прославляли силу, мужество, суровую непреклонность, и потому народы древности способны были свершить великое.
Христианская религия ослабляет волевую и умственную активность в человеке и в народе, и потому находятся в упадке любовь к свободе и республиканский дух[278]. С этим надо бороться.
Вот цепь рассуждений, определяющих роль и значение христианской религии в общественной жизни. До них раньше Макиавелли не додумывался никто, хотя все его выводы сделаны из посылок, давно усвоенных каноном Возрождения. Но Макиавелли и на этом не остановился. Когда ему пришлось ставить и разрешать вопросы политической теории, он должен был задуматься над тем, чем руководствоваться в анализе.
До него самые блестящие образцы теоретических рассуждений в области политики были неразрывно связаны с моралью, и так как это были рассуждения не гуманистические, а схоластические, то и с религией. Гуманисты, поскольку в своих сочинениях они касались политических вопросов, делали иной раз робкие попытки поговорить о политике свободно, но жизнь не ставила им трагических вопросов, и у них все кончалось легкой игрою ума.
Макиавелли понял, что пока он не изолирует вопросов политики от вопросов морали и религии, до тех пор он будет беспомощно топтаться на месте и не скажет ничего нужного для жизни. А события были таковы, что необходимо было политические вопросы ставить и разрешать с величайшей, беспощадной прямотою и смелостью: для этого надо было отбросить все, что мешало свободному анализу, в том числе религиозные и моральные соображения. И Макиавелли дерзнул. Именно за это его кляли больше всего и при жизни и особенно после смерти.
С Церковью и духовенством вообще было легче. Это была проторенная дорожка со времени первого «Новеллино»[279]. Но Макиавелли не умел смеяться так, как смеялись новеллисты. Его смех был другой. В «Мандрагоре» Церковь в лице монаха фра Тимотео разрушает крепкие моральные устои у людей, успокаивает сомнения, продиктованные чистой совестью, толкает к греху и удовлетворенно позвякивает потом тридцатью сребрениками, полученными за самое безбожное с ее собственной точки зрения дело. Это – не легкая насмешка. Это – свирепая, уничтожающая сатира.
Макиавелли знает, что он хочет сказать. Пока Церковь управляет совестью людей, не может быть здорового общества, ибо Церковь благословит, если это будет ей выгодно, самую последнюю гнусность, самое вопиющее преступление. Совершенно так же, как не может быть в Италии здорового, то есть единого и свободного государства, пока в центре страны укрепилась Папская область, которая в своих интересах идет наперекор национальным задачам страны. Тут полная параллель.
В вере, в религии, в Церкви – главное зло. Чем сложнее становится жизнь, тем это зло больше. Потому что усложняющаяся жизнь – это новая жизнь, которая секуляризируется с каждым днем сильнее к великой невыгоде Церкви. Церковь отстаивает свои позиции с непрерывно возрастающим озлоблением.
И тем более непреклонно и непримиримо должна вестись борьба со старым, еще не изжитым наследием феодального мира. Вольтер скажет потом: «Раздавите гадину» – «Ecrasez l’infame». Формула принадлежит ему, мысль – Макиавелли.
Доктрина Возрождения благодаря Макиавелли вбирала в себя под напором жизни новые элементы, все более решительные и боевые. В ней, как и в микеланджеловском искусстве, появлялась terribilita, нечто «грозное», что отпугивало более робких, но с точки зрения социальных и политических задач времени было самой естественной защитной реакцией, ибо в «Il Principe» и в аллегориях Сикстинского плафона трепещет в муке один и тот же дух.
Страшно, но неизбежно. Жизнь – Голгофа. Ее отражение не может быть хороводом танцующих путти[280] на светлом розовом фоне или беззаботной карнавальной песенкой.
И важно в жизни то, что нужно. Распределяя ипостаси гуманистического канона в порядке убывающей политической, то есть единственно жизненной, важности, Макиавелли нашел, что ренессансный культ красоты – нечто совершенно бесполезное. Он знал, конечно, что идея прекрасного в мировоззрении эпохи играет огромную роль и является неотъемлемой частью культуры Возрождения. Но это его не останавливало.
С точки зрения трагических «быть или не быть» это не нужно. Ни красота в природе, ни красота в искусстве. В писаниях Макиавелли нет ни одной строки, где бы чувствовалось понимание красот природы, лирическая настроенность, подъем. Никколо имел слабость считать себя поэтом[281] и стихов написал достаточно.
Но это – не поэзия, а рифмованный фельетон: и стихи в комедиях, и «Десятилетия» («Deccennali»), и «Золотой осел» («Asino d’oro»), и capitoli, и песни. Настоящий подъем, трепет подлинного чувства, пламенная лирика – политическая – у Макиавелли не в стихах.
С таким же равнодушием, как к природе, относился он и к искусству. В «Истории Флоренции» оно не играет никакой роли. Даже рассказывая о Козимо и Лоренцо, он оставил совершенно в тени вопросы искусства. Имена Брунеллеско, Гиберти, Донателло, всей плеяды художников, работавших при Лоренцо, даже не упоминаются. В характеристике Лоренцо есть только одна фраза: «Он очень любил всякого художника, выдающегося в своей области»[282].
А в «Arte della guerra» он говорит про Италию, что она «воскрешает мертвые вещи: поэзию, живопись, скульптуру»[283].
В идеологии Возрождения его интересует только индивидуалистическая доктрина, но в его руках она стала неузнаваема. У гуманистов интерес к человеку есть интерес к личности. Он замкнут в кругу этических проблем. Макиавелли этот круг разрывает. Человек у него берется в самом широком смысле слова, и опять строятся категории: человек, люди; соединение людей, то есть общество; жизнь общества и борьба общественных групп; возникновение власти; властитель и различные его типы; государство и различные его формы; государственное устройство; столкновение между государствами; война; нация.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Макиавелли[321]
Макиавелли[321] Рассуждения о первой декаде Тита Ливия[322]ВступлениеЛюди всегда хвалят — но не всегда с должными основаниями — старое время, а нынешнее порицают. При этом они до того привержены прошлому, что восхваляют не только те давние эпохи, которые известны им по
НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ (1469–1527)
НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ (1469–1527) Никколо Макиавелли родился во Флоренции в семье небогатого юриста. В юности Никколо не получил широкого образования, в отличие от большинства других гуманистов, однако эти недостатки он восполнил самостоятельно-с одной стороны, путем
Жизнь и труды Макиавелли
Жизнь и труды Макиавелли Никколо Макиавелли родился во Флоренции 3 мая 1469 года. Он происходил из старинной тосканской семьи, которая еще до появления Никколо на свет добилась высокого положения в обществе.Впрочем, семья Макиавелли не была так влиятельна и знаменита, как
Выдержки из работ Макиавелли и комментарии
Выдержки из работ Макиавелли и комментарии Тому, кто учреждает государство и устанавливает законы, необходимо помнить, что люди злы и всегда будут вести себя в соответствии со своей злостной натурой, как только им представится такой шанс.Макиавелли. РассужденияПапство
Жизнь и эпоха Макиавелли: хронология
Жизнь и эпоха Макиавелли: хронология 1469 — Во Флоренции на свет появляется Никколо Макиавелли. Приходит к власти Лоренцо Великолепный.1478 — Провал заговора Пацци; Лоренцо чудом остается в живых.1492 — Смерть Лоренцо Великолепного. Колумб достигает берегов Америки.
Глава III. МАКИАВЕЛЛИ
Глава III. МАКИАВЕЛЛИ Хотя Возрождение не дало ни одного значительного теоретического философа, в области политической философии оно дало одного исключительно выдающегося мыслителя – Никколо Макиавелли. При имени его обычно приходят в ужас, и порой он действительно
П. И. Новгородцев. МАКИАВЕЛЛИ
П. И. Новгородцев. МАКИАВЕЛЛИ Биография МакиавеллиРазложение средневековых преданий, которому в такой мере способствовала эпоха Возрождения, нигде не совершалось столь быстро, как в классической стране Возрождения, в Италии. Древняя философия, древнее искусство,
Никколо Макиавелли. ГОСУДАРЬ
Никколо Макиавелли. ГОСУДАРЬ Перевод с итальянского Г. Д. Муравьевой Никколо Макиавелли – Его светлости Лоренцо де Медичи[2]Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого или чем надеются доставить ему наибольшее
Никколо Макиавелли. РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТИТА ЛИВИЯ
Никколо Макиавелли. РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТИТА ЛИВИЯ Перевод с итальянского Р. И. Хлодовского КНИГА ПЕРВАЯВступлениеХотя по причине завистливой природы человеческой открытие новых политических обычаев и порядков всегда было не менее опасно, чем поиски неведомых
Никколо Макиавелли. О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ
Никколо Макиавелли. О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ Перевод с итальянского. Современная литературная редакция А. К. Осмолова Предисловие Никколо Макиавелли, гражданина и секретаря флорентийского, к книге о военном искусстве, посвященное Лоренцо, сыну Филиппо Строцци,
НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ (1469–1527)
НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ (1469–1527) Итальянский политический мыслитель, историк («История Флоренции», 1520–1525, писатель (комедия «Мандрагора», 1518). Видел главную причину бедствий Италии в ее политической раздробленности, преодолеть которую способна лишь сильная власть