Глава II ЖИВОТНЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ.
Глава II ЖИВОТНЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ.
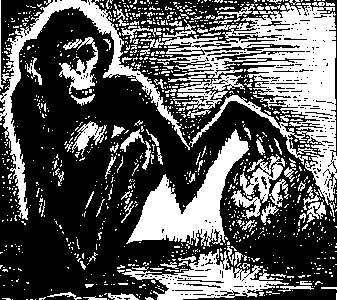
О Все — Боги, пересекающие воды,
Придите, быстрые, к выжатому (соме),
Как коровы — на пастбище!
Ригведа. Мандала 1,8
Грилл.… я не перестаю дивиться словам софистов, убедивших меня считать все живые существа, кроме человека, лишенными разума и рассудка <…>
Одиссей. Смотри, Грилл, не слишком ли смело приписывать разум тем, у кого отсутствует понятие о божестве?
Грилл. Значит, нельзя сказать, Одиссей, что ты, столь мудрый и рассудительный муж — потомок Сизифа?
Плутарх. Грилл, или О том, что животные обладают разумом
Ночь. Была зима. Замерзли обезьяны.
Светлячок ночной внезапно засверкал.
«Вот огонь» — вообразили обезьяны и
охапку хвороста кинули на него.
Рудаки. Калила и Дамна
Важнейшая проблема, давно стоящая перед наукой, это проблема границы между человеком и животным. Где она проходит? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Чем ближе научные данные, собранные биологами, этологами, зоопсихологами, генетиками, подводят нас к решению вопроса, тем коварнее ускользает определенность этой черты, тем больше становится разнообразных «но» и «однако». Поистине, как в старинной русской пословице: «Межи да грани — ссоры да брани».
Пример, как кажется, легкого решения этого вопроса мы наблюдали в школе для глухонемых детей. В одном из младших классов, куда были собраны дети, требующие специальной педагогической коррекции, только что закончился урок. Класс был необыкновенно возбужден. Занятие закончилось, но учащиеся вместо того, чтобы привычно резвиться в рекреации, бурно обсуждали последние аккорды закончившегося урока. Для глаза непосвященного они вели себя странно. С радостным и лукавым выражением лиц они наклонялись и демонстрировали товарищам свои ягодицы. Картина была веселой, но вполне пристойной: попы ребятишек были обтянуты юбочками и брюками. Эти полукарнавальные жесты встречались общим ликованием, хохотом и аплодисментами, вероятно, выражающими радость за товарища.
Классная доска сохранила на себе следы занятия. Она была разделена надвое. Слева было написано: «животное», справа — «человек». Под словом «животное» столбиком следовало перечисление признаков: голова — одна, туловище — одно, ноги — четыре, хвост — один. Под словом «человек» было написано следующее: голова — одна, туловище — одно, ноги — две, руки — две. Этот столбец завершался особо крупной и четкой надписью: хвоста нет! Именно этот факт так бурно и эмоционально переживали дети. Конечно, в своей повседневной жизни дети, даже умственно отсталые, знают, что хвоста у людей не бывает. Радовались они не самой информации. Это была истинная, высокая радость познающего разума, сопровождаемая смехом, достойным мифологических богов-демиургов, творящих свою вселенную. Это была радость перехода от конкретно-чувственного знания к теоретическому обобщению, счастье приобщения к категориальному мышлению. Здесь можно было видеть не просто группу шалящей возбужденной детворы; перед глазами наблюдателя, здесь и сейчас, разворачивалась удивительная картина человеческой самоидентификации и начало той постоянной рефлексии по поводу границ, на которой и строится истинно человеческое сознание.
Чарльз Дарвин одним из первых выдвинул гипотезу о том, что у животных явно наличествуют элементы мышления. Для него они уже не были некими «машинами», действующими только в соответствии с инстинктивными программами. В своем знаменитом «Происхождении видов» Дарвин постулировал наличие у животных зачатков разума, который он терминологически определяет как «способность к рассуждению», присущую животным так же, как и врожденные инстинкты. В своей книге «Происхождение человека и половой отбор» (1896 г.) он писал, что «из всех человеческих способностей разум, конечно, ставится на первое место. Но весьма немногие отрицают в настоящее время, что животные обладают некоторой степенью „рассуждающей способности“». По мнению Ч. Дарвина, как бы ни была велика разница между человеческой психикой и психикой животных, эта разница определяется «в степени, а не в качестве».
В данном случае суждение Дарвина отражало не только уровень знаний в области зоопсихологии, который существовал в последние десятилетия XIX века, но и влияние на ученого созданной им гениальной, но от этого не менее самодовлеющей системы. Мысль о том, что отличие человеческого разума от разума животного носит чисто количественный характер, естественно, порождена его же собственным учением о ходе эволюции. Эволюция являет собой перманентное приспособление организма к среде в результате накопления и закрепления адаптивных признаков. Дарвин полагал, что рассуждающая способность животных функционирует как один из механизмов адаптации организма к динамичным условиям среды его обитания. То же самое, по логике Ч. Дарвина, можно сказать и о человеке. Исследования этологов и зоопсихологов, проведенные в XX веке, показали, что многие филогенетически далекие друг от друга виды обладают на редкость сходными и явно избыточными для простого поддержания жизни возможностями рассудочной деятельности. Так, например, установлено, что мышление высокоорганизованных животных (приматов, дельфинов, врановых птиц) не ограничивается способностью к решению отдельных приспособительных задач, но представляет собой системную функцию мозга, которая проявляется в эксперименте при решении разнообразных тестов, уровень сложности которых явно превосходит уровень сложности тех жизненных задач, с которыми приходится сталкиваться этим животным в естественной среде обитания.
Эксперименты Паттерсон, Гарднер и др. показали, что обезьяны способны переносить навык называния предмета с единичного образца, который использовался при обучении, на все предметы этой категории, то есть их мышление явно приближается к категориальному. Оперируя с одним ведром, с которым познакомил их экспериментатор, они способны адекватно идентифицировать все ведра мира. В экспериментах Роджера Футса, проведенных с шимпанзе Люси, было установлено, что обезьяна способна использовать систему знаков, которую усвоила в ходе работы с ученым, как средство классификации предметов и их свойств. Следует напомнить, что тесты на способность к классификации и обобщению давно используются как средство определения уровня интеллектуального развития у людей, в частности при постановке диагноза «дебильность». Проявив способность к классификации, Люси этот диагноз в отношении себя явно отметает.
Один из наших друзей, посетив родину предков, оказался в большом и очень интересном зоопарке, в отделении приматов. Особое внимание посетителей привлекала огромная горилла, сидящая у решетки с совершенно по-человечески протянутой для подаяния рукой и уморительно грустным, почти артистическим выражением лица. Служители зоопарка постоянно предупреждали посетителей, что животное содержится и питается очень хорошо, точно по медицинской норме, и класть в ладонь никаких лакомств не следует. Но лицо обезьяны было столь выразительным, мимика изображала такую глубокую скорбь, подсвеченную легкой иронией, что сердца людей время от времени не выдерживали.
К клетке подвели группу стариков-пенсионеров. Экскурсовод говорил по-русски. После недолгого комментария все двинулись дальше, и только одна почтенная пожилая женщина с очень русским лицом продолжала стоять перед гориллой, не отводя от нее глаз. Муж этой дамы несколько раз просил ее пойти вместе с другими, но она не двигалась, не отвечала, не отводила глаз, как завороженная. Муж ее, судя по выговору одессит, взял жену за руку и проникновенно сказал: «Клавочка, и не мечтай: для этого места требуется как минимум два высших образования». И женщина, еще пребывающая в завороженном состоянии, ушла, ведомая супругом. Безграничная «человекообразность» человекообразной обезьяны, прожившей в постоянном контакте с людьми годы, просто завораживала и заколдовывала, заставляя напрочь забыть обо всех действительно существующих границах.
Вероятнее всего, человеческое мышление отличается не количественно, то есть не по степени, как считал Ч. Дарвин, а качественно. Другой вопрос, в чем это качество воплощено. Давно умерла знаменитая Маша, посвященную науке жизнь которой описал талантливый русский врач-психиатр, работавший на рубеже прошлого и позапрошлого веков, С.С. Корсаков. В своей книге «Курс психиатрии»[25] он дает одно из самых глубоких и точных описаний поведения микроцефала, то есть человека с грубой патологией головного мозга. Мозг Маши был не намного больше, чем у взрослого шимпанзе или гориллы. Маша представляла собой тот редкий случай, когда микроцефалы могут говорить. Она не только понимала несколько вопросов и команд, обращенных к ней, но и имела некоторые воспоминания о детстве. По свидетельству С.С. Корсакова, речь ее была крайне нелогична. Опираясь на данные С.С. Корсакова, в своем исследовании «Драконы Эдема. Рассуждение об эволюции человеческого разума»[26] Карл Саган крайне иронически воспринимает любые попытки отнести разум микроцефалки Маши к категории человеческого, а Машу считать человеком. Наиболее ярким доказательством своей точки зрения он считает поведение Маши во время еды. Когда на стол ставилась пища, Маша ела, но если еду неожиданно убирали, она воспринимала это как конец трапезы — благодарила тех, кто ей подавал, и благочестиво крестилась. Экспериментаторы снова ставили еду на место. Маша, вероятно, позабывшая о том, — что было минуту назад, снова мирно принималась есть. Если пищу опять убирали, она снова благодарила и так же благочестиво крестилась. Конечно, К. Саган напрямую не говорит о том, что Маша не относится к роду людскому, однако он пишет: «Мне лично думается, что Люси и Уоши (другая обезьяна, показавшая чудеса интеллекта в экспериментах второй половины XX века. — С.А., С.Б.) могли бы оказаться куда более интересными сотрапезниками, чем Маша, и что сравнение людей-микроцефалов с нормальными обезьянами не является несовместимым со своего рода Рубиконом интеллекта»[27].
Да, действительно, Маша по уровню интеллекта явно ниже авангардно продвинутых обезьян, участвовавших в экспериментах XX века. Интеллектуальный мир ее беден, словарный запас убог, отстаивать свои права на удовлетворение насущных биологических потребностей она умела плохо. Тест на классификацию она бы явно не прошла, и назвать ее адекватной, пожалуй, нельзя. Можно ли считать ее человеком только за то, что она рождена женщиной от мужчины? Религиозно-нравственная традиция дает однозначный ответ — да. Что бы ни «родила царица в ночь» от царя, даже уехавшего на войну, это человек — подобие божье. Но такое же уверенное «да» говорим и мы. Маша — человек не только по происхождению, то есть биологически. Несмотря на все свое количественное интеллектуальное убожество, Маша качественно является человеком, и об этом говорит как раз та сцена, которая так смешит и раздражает К. Сагана. В своем общении с миром Маша использует традиционные речевые и жестовые ритуальные формулы человеческого общения, пусть даже плохо понимая их. Мало того, она явно рефлектирует по поводу пространственной и временной границы, отмечая ее ритуальными действиями. Таким образом, микроцефалка Маша, сама не осознавая этого, проводит тот самый Рубикон между человеком и животным, и ритуал, связанный с границей, для нее оказывается насущнее одной из основных потребностей организма — потребности в пище. К Маше, наверное, в полной мере относится русская народная загадка: «Не на меру, не на вес, а у всех людей он есть». Отгадка этой загадки — ум. Действительно, ум Маши лучше не мерить и не взвешивать — результат получится печальный. Однако ум этот — человеческий, ибо Маша, как может, а может она немного, измеряет и взвешивает окружающую действительность, меряет собой, то есть моделирует.
Двухлетняя девочка, разговаривая сама с собой в пустой детской, рассматривает пальцы собственной ноги, начиная с большого и заканчивая мизинцем: «Это — папа, это — мама, а вот это их дети — барсучата». Обнаружив на кухне банки, приготовленные для консервирования, она возобновляет процесс формирования модели человеческого сообщества, подсказанный ей текстом народной сказки. Трехлитровая банка — это папа-медведь, вторая такая же — мама-медведица, полуторалитровая — медвежонок. Увидев маленькую баночку из-под конфитюра, девочка поучительно говорит: «А это будет Машенька». Конечно, это игра, но она не количественно, а качественно отличается от игр детенышей животных: она абсолютно нефункциональна и полностью основана на моделировании, символизации и смыслополагании. Бегая за бантиком, котенок оттачивает инстинктивные действия по поимке и удержанию добычи. Играя с банками, девочка, конечно, не научится консервированию овощей или мытью банок, она даже вряд ли усвоит простую истину о том, что, уронив банку, ее можно разбить. Она усвоит значительно более важное и необходимое, но важное и необходимое только человеку.
Рассудочная деятельность «умного животного» при всем ее кажущемся разнообразии, яркости и оригинальности в конечном итоге сводится к сложной системе различных приспособительных реакций, основная цель которых — выживание в среде обитания. Животное приспосабливается к среде, частью которой оно само является. Самая умная и ученая обезьяна сливается со средой в единый континуум и уж своего никогда не упустит. Глупая Маша с идиотическим упорством после каждого очередного отъема пищи повторяет функционально абсолютно ненужные ритуальные действия, смысла которых она не понимает, но точно знает — после благодарностей и крестного знамения трапеза закончена и пищу ей не вернут. Как будто лишенные всякого смысла действия Маши, которые никак не связаны ни с инстинктом выживания, ни с инстинктом самосохранения, ни с удержанием и возвращением пищи, в действительности являются моделированием мира по временному и пространственному принципу. Маша, конечно, ничего бы не поняла, если бы ей сказали, что она при помощи традиционных ритуальных действий маркирует дискретность времени. Но это так. Она, как мольеровский малограмотный мещанин господин Журден, не знавший, что он всю жизнь говорит прозой и в зрелые годы с удивлением открывший это для себя, всю свою «полу-обезьянью» жизнь чисто по-человечески моделирует мир, но, в отличие от господина Журдена, конечно, никогда не сможет этого узнать от других и хоть как-то самостоятельно осмыслить.
Поиск качественных отличий сознания человека от сознания животных всегда тревожил человеческую мысль. В книге, написанной одним из мудрейших и наиболее дерзновенных мыслителей древности и вошедшей в Ветхий Завет, Книге Иова, одной из коренных становится проблема испытания человеческого разума. Книга Иова является подробным отчетом о страшном и жестоком психологическом эксперименте, который проделывают единый Бог и Сатана над наивным субъектом, которым является благочестивый и верный Иов. Иов живет в обкатанном и гармоничном круге патриархальной жизни богатого кочевника, потребности его с избытком удовлетворены: у него много крупного и мелкого скота, покорных и сытых рабов, изобилие детей, будущее определенно и безмятежно, он знает, что умрет в глубокой старости, насытившись днями. Идеал Иова определен в гл. 5:
Ибо с камнями полевыми у тебя союз,
И дикие звери с тобою в мире.
И узнаешь, что шатер твой безопасен,
И осмотришь дом твой — и нет недостатка.
И узнаешь, что семя твое многочисленно,
И отпрыски твои, как трава на земле.
В старости глубокой придешь ты к своей могиле,
Как копна, что уложена, когда пришло ей время[28].
Сатана посеял в сознании Бога подозрение, что верность и ритуальное благочестие Иова вызваны исключительно тем, что он доволен собственной жизнью. Бог, чтобы проверить Иова, отдает его в руки Сатаны, который, подобно жестокой судьбе античности, беспощадно и анонимно (Иов так до конца жизни и не узнает, кто был лаборантом этого жуткого эксперимента) шаг за шагом отнимает у человека жизненные блага, пытаясь определить верхний порог физических и нравственных страданий, при которых испытуемый продолжает оставаться самим собой, то есть сохраняет стабильную структуру своей личности. Скрупулезно и методично экспериментатор Сатана отнимает у подопытного сначала скот — его главное богатство, затем всех рабов, а затем и надежды на благополучную старость и наследников, то есть на продолжение рода. Иов, верный Богу и уверенный в том, что виновником его страданий является именно Бог, повторяет ставшую теперь пословицей фразу: Бог дал — Бог взял. Пока он покорен.
Не получив нужного результата, лаборант обращается к «руководителю лаборатории» за санкцией о переносе воздействия с внешнего предметного и социального окружения испытуемого на телесный уровень. Иов заболевает проказой, которая не только приносит ему сильнейшие физические страдания, но и делает его социально ущербным, изгоем, он фактически выброшен за пределы становища кочевников, в котором он занимал наиболее престижное место. Особенности болезни лишают его возможности получения даже элементарной помощи и ухода со стороны близких. Жена призывает его проклясть Бога и умереть для избавления от страданий, а пришедшие навестить его трое друзей долго, нудно и самодовольно убеждают в том, что он, вероятно, несет заслуженное наказание, о причине которого просто не подозревает. Одинокий, не понятый Иов проклинает день, когда родился, он проклинает идею воздаяния, потому что не знает за собой какой-либо вины, и приходит к мысли о жестокости и несправедливости божества. Страшные физические и нравственные муки, маркирующиеся в рамках его тела, заставляют Иова считать Бога виновным в страданиях простых людей.
Нагие ночуют, без одежды,
И без крова на стуже.
От горных ливней мокнут
И, не имея убежища, обнимают скалу.
И злодеи похищают сироту от сосцов
И младенца у нищего берут в залог.
Нагие ходят без одежды,
И, голодные, носят снопы.
А в городе люди стонут,
И душа убиваемых взывает о помощи,
А Бог не обращает (внимания)
На такое (надругательство)[29].
Эксперимент над человеком обнаруживает ту грань, за которой меняется личность и благодарный, благочестивый и преданный Высшему Разуму Иов, считавший справедливость его атрибутивным свойством, выходит за границы предрешенного его убеждениями, прорывается к диалогу с Богом, в чем на мгновение уравнивает себя и Вседержителя. Удивительно, что в момент наивысшего подъема своего духа, обострившего в нем силу протестующего разума, Иов вдруг ощущает единство и даже слитность свою с животным миром. Отвечая своему другу Элифазу, он говорит:
О, если б верно была взвешена горесть моя,
И несчастье мое на весы положили вместе.
Тяжелее бы оно было теперь, чем песок морей
От того неистовы мои слова.
Ибо стрелы Вседержителя во мне,
Яд их пьет дух мой,
Ужасы Бога ополчились против меня[30].
И тут же в сознании Иова вспыхивает мысль о том, страдают ли животные:
Ревет ли дикий осел на траве?
Мычит ли бык у месива своего?[31]
Для гениального автора книги Иова человек в момент инсайта, высшего интеллектуального прорыва, осознает себя существом, с одной стороны, подобным животному из плоти и крови, испытывающему физические страдания и вожделеющему материальной пищи (травы и месива), а с другой стороны, уравнивает себя с демиургом, творящим мир. Как же понимается в книге Иова суть акта творения? Автор книги поставлен перед необходимостью создания образа Бога потому, что по сюжету Бог отвечает на вызов Иова и вступает с ним в диалог. Пытаясь ответить на вопрос Иова, Бог не столько объясняет свои поступки и действия, собственно он и не объясняет их, поскольку это просто стыдно, ибо он вступает в тайный сговор со злом, сколько акцентирует внимание на том, чем человек отличается от него и почему не имеет права противоречить ему. Наверное, излишне объяснять современному читателю, что божий глас, звучащий в конце книги, — это голос автора произведения, человека своей эпохи, исследующего художественными средствами проблему человека и его места в мире. Недаром первое, что говорит Иову голос Яхве из бури — это определение человека с точки зрения некоего Абсолюта, носителя общего замысла всего.
И ответил Яхве Иову из бури,
И сказал:
— Кто этот, омрачающий замысел
Словами без разумения?
Перепояшь же чресла свои, как муж,
Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне[32].
Первое, чего требует Бог от человека для вступления в диалог с собой — совершенно не обязательного на первый взгляд действия — перепоясать чресла. Однако это не так. Подпоясывание является широко распространенным и. весьма важным ритуальным действием, маркирующем человеческое тело и проводящим по нему основную границу. Этот архаический ритуал связан с осмыслением тела человека как микрокосма. Мифологическая космогония восходит к разделению, разрыванию, разрезанию тела первосущества, макрокосма, и построению из него Вселенной, где из верхней части строится космос (из свода черепа — небо, из правого глаза — солнце, из левого — луна, из плоти — земля, из костей — горы, из крови — вода и т. д.), из материально-телесного низа же (внутренностей, половых органов, фекалий) строится вторичный хтонический хаос, преисподняя.
Конечно, в одежде пояс всегда играл функциональную роль: на нем держались набедренные повязки, юбки и другие части одежды, на нем крепилось оружие и т. д. Однако ритуально-знаковая функция пояса была всегда не меньше, если не больше практической, утилитарной. До сих пор по наличию и значению пояса в женском традиционном костюме того или иного народа можно определить, давно ли этот народ перешел от матриархата к патриархату. Не перепоясанная женщина не осмысливается как полноценный человек, потому что материально-телесный низ не отделен от духовно-возвышенного верха, и поэтому она полностью является существом неупорядоченным, порождением хаоса.
Обращение Бога к Иову буквально значит: Упорядочи себя, дабы Я мог обратиться к тебе. Ключевым словом в обращении Бога к человеку является слово «замысел». Исследователь истории библейского текста книги Иова, М.И. Рижский[33] указывает, что соответствующее еврейское слово имеет несколько значений: «замысел», «совет», «план», «мудрость», то есть в конечном итоге — это модель. По мнению исследователя, не совсем ясно, что имеет в виду автор. Так, Рижский указывает, что, например, Хельшер считал, что имеется в виду божественный разум, а Петерс интерпретировал это уже как замысел Бога по отношению к Иову.
Не будучи специалистами по библейским текстам, мы все же в своем понимании данного сюжета ощущаем близость к позиции Хельшера. Бог, созданный автором книги, сразу проводит черту между собой и человеком. Он является носителем замысла, то есть существом в первую очередь моделирующим мир. Вселенную. Иов же по недостатку разума омрачает красоту и стройность замысла, не достоин этой совершенной модели. Далее Бог строит свои рассуждения на сравнении себя и Иова, и если сравнение проводится, то значит, оно возможно, допустимо. А в чью пользу оно будет — это другой вопрос. И Бог, и Иов являются носителями разума, следовательно, существами моделирующими. Бог констатирует не столько свое интеллектуальное отличие от Иова, сколько свое превосходство. И превосходство это измеряется способностью к моделированию.
Где ты был, когда Я заложил основание земли?
Сообщи, если обладаешь знанием.
Кто установил размеры ее, ты ведь знаешь?
Или кто протянул по ней мерный шнур?
Во что были врыты ее столбы?
Или кто заложил ее краеугольный камень
При ликующем пении всех утренних звезд,
Когда все сыны божьи восклицали (от радости)?
Кто загородил воротами море,
Когда оно, вырвавшись, из утробы вышло?
Когда я сделал облако его одеждой
И густой туман пеленами его?
И (назначил) ему предел (его),
И поставил затворы и ворота.
И сказал: «До сюда дойдешь и не дальше.
Здесь уймется твоих волн гордость!»[34]
Бог велик по сравнению с Иовом в первую очередь не в силу своих интеллектуальных качеств и даже бессмертия. Его раздражает недостаток «разумения» Иова, следовательно, он изначально надеялся на большее. Бог совершает ошибки, он оказывается не всеведающим, потому что ему требуется экспериментальная проверка одного из его лучших творений Иова. Он обладает не лучшими даже для человека нравственными качествами. Он ведет себя как невротик, проявляющий мнительность и недоверие не только к себе, как к автору одной из своих лучших моделей — Иова, но и к Иову, который способен на безраздельное доверие к Богу. Величие Бога, образ которого создан гениальным писателем, заключается именно в его чисто человеческой универсальной моделирующей способности, которая проявляется не только и не столько как создание мира, сколько как его структурирование и упорядочивание, и не столько материальное и физическое, сколько интеллектуальное. В приведенном фрагменте он говорит об объективной реальности, о мире, о Вселенной как о замысле (почти проекте). Ключевыми словами и выражениями являются «знание», «размеры», «мерный шнур», «столбы», «краеугольный камень», «ворота», «предел», «затворы», «до сюда дойдешь и не дальше». В той же главе он говорит о сообщении «заре места ее», «краях земли», «глиняной печати», «вратах смерти», «шири земли», «дороге к жилищу своему», «месте тьмы», «границе», «дороге, на которой разделяется свет» и т. д. и т. д.
Бог моделирует мир, переживает, осмысливает и осваивает его, постоянно рефлектируя по поводу всех и всяческих границ. Иов же живет в круговой гармонии, созданной Богом. Прорыв к осмыслению мира возможен для него лишь тогда, когда его модель рушится, и надо все восстанавливать, заново проводя границы.
В данном случае для нас в книге Иова не является важным то, что важно для многих исследователей этого замечательного произведения: кто был прав в споре и кто в нем победил. Для нас важно другое. Создавая образ Бога, автор Книги Иова вольно или невольно создал образ человека как существа моделирующего в самом высоком и подлинном смысле этого слова: моделируя мир, он делает себя его мерилом, или, как говорили древние греки, мерою всех вещей.
Удался ли психологический эксперимент, проведенный Богом при помощи безмолвного, незримого и лишенного представлений о научной этике лаборанта? Удался. Иов оказался способным понять истинное предназначение человека — его моделирующую сущность, а значит, и понять свое обывательское ничтожество и личностное несовершенство. Стал ли сам Иов, все поняв, вровень с истинно свободным и моделирующим существом, с человеком с большой буквы, то есть с тем, кого мы называем Богом? Да, но это длилось только мгновение, мгновение инсайта и понимания. Эту высоту усталый и измученный человек удержать не смог. Бог награждает Иова за понимание не счастьем свободного моделирования, а покоем возвращения на круги своя.
И Яхве благословил последние (дни) Иова.
Более, чем первые, и было у него четырнадцать тысяч (голов) мелкого скота, и шесть тысяч верблюдов, тысяча упряжек волов и тысяча ослиц. И были у него семь сыновей и три дочери. И дал он имя одной — Иемима, имя второй Кеция, имя третьей — Керен-Гаплух (то есть, светлая, глубокая, благоуханная. — С.А., С.Б.). И не найти было во всей стране женщин столь прекрасных, как дочери Иова. И дал им отец наследство среди братьев их. И жил Иов после этого сто сорок лет. И видел сыновей своих, и сыновей своих сыновей до четвертого поколения. И умер Иов в старости сытый днями[35].
Эксперимент, который описан в Книге Иова, жесток, но крайне поучителен. В своем желании разобраться, что же такое человек, параноидальный и беспощадный экспериментатор в конечном итоге добился положительного результата: смертное, более слабое, чем он, и физически и интеллектуально существо оказалось потенциально способным к тем же функциям, что выполнял он, Бог, к упорядочиванию, структурированию, моделированию мира, первоначально понимаемому пусть даже как измерение, проведение границы и определение места.
Вторая половина XIX века, кроме всего прочего, конечно, стала временем интеллектуального потрясения человечества открытием Ч. Дарвина, указавшего естественный и природный путь возникновения человека.
Любопытно, что Книга Иова на много столетий опередила ход развития цивилизации, поставив перед человечеством вопрос, ответ на который искал автор гениальной книги: что есть человек? Книга Иова посвящена поиску «верхней границы» человеческой сущности. «Нижняя граница» только упоминается. Любопытно, что примерно за полстолетия до открытия Дарвина известный петербургский либертин, человек, сознательно выходивший за границы предустановленных обществом норм поведения, бретер и скандалист граф Федор Толстой-американец, о котором писал еще A.C. Грибоедов в своей знаменитой пьесе «Горе от ума», желая эпатировать публику, распространял о себе явно ложный слух, что сожительствовал с самкой человекообразной обезьяны, а потом убил ее и съел. Конечно, это был просто скандальный, сознательно запущенный слух, в духе литературных опусов и фантазий Де Сада. Удивительно, что при всей эпатаж-ности и литературщине россказни не находящего себе применения русского барина, обладателя могучей, неудержимой натуры, в достаточной мере моделируют те поразившие не только научный мир, но и рядового обывателя эксперименты с человекообразными обезьянами, которые начнутся в 20-е годы XX века и с особой интенсивностью и поражающими воображение результатами будут вестись в середине века.
Эксперименты, проводившиеся в XX веке, были связаны с изучением высокоорганизованных животных, в первую очередь обезьян. Наука к этому времени убедительно доказала, что антропоиды являют собою наших ближайших, пусть и «двоюродных», родственников и наиболее близки не только внешним видом, но и поведенческими и физиологическими особенностями к тем таинственным существам, которых Ф. Энгельс называет «нашими волосатыми предками». Кроме того, и это немаловажно, дарвиновская идея успела укорениться и в массовом сознании, что создавало благоприятные условия для научного поиска, поддержанного коллективным интересом и ожиданиями. Фундаментальный вопрос, который в первую очередь должен был разрешиться в этих экспериментах, мог задать только человек: где же проходит грань, черта, Рубикон между ним и обезьяной? В самой постановке вопроса и в схеме многочисленных экспериментов ярко проявилась коренная особенность человеческого сознания, которая, рождаясь в глубокой древности, на заре возникновения человечества, и создавая первую модель мира, разделила окружающее надвое. Именно с этого началось формирование первой более или менее осознанной модели. Так возник миф — древнейшая, наиболее архаическая форма сознания. Появление бинаризма в мировосприятии людей дало толчок бесконечному и все усложняющемуся процессу деления и разграничения, отделения одной сущности от другой, то, что один замечательный славянский автор периода Средневековья, человек по имени Хоробр, назвал «чертами и резами», то, что со временем породило письменность и всю культуру человечества.
Первые эксперименты в этой области были направлены на изучение познавательных особенностей обезьян. Показательно, что одним из первых и наиболее ярких исследований стала ранняя работа замечательного русского ученого H.H. Ладыгиной-Котс. Результаты ее опытов были обобщены в вышедшей в 1935 г. книге «Дитя шимпанзе и дитя человека». H.H. Ладыгина-Котс провела сравнительно-психологическое исследование развития новорожденного детеныша шимпанзе и его ровесника — собственного грудного младенца. В снабженной многочисленными фотографиями и рисунками работе прослеживается параллельное развитие двух детенышей различных видов отряда приматов. Исследование объективно, точно и достоверно. На ранних стадиях онтогенеза развитие человеческого и звериного детенышей поражает своим сходством. По мнению исследовательницы, выполнявшей также функции матери по отношению к обоим детенышам, обезьяны являются носителями элементарного конкретно-образного мышления. Они способны к простейшей абстракции и обобщению, что приближает их интеллект к человеческому. Однако она подчеркивала, что «обезьяний» интеллект качественно отличается от человеческого, понятийного, опирающегося на членораздельную речь, работающего со словами как сигналами сигналов, как особой чисто человеческой системой кодов. Звуки же, издаваемые обезьянами, при всем их многообразии выражают только эмоциональное состояние животного. H.H. Ладыгиной-Котс был сформулирован блестящий афоризм: шимпанзе не почти человек, а совсем не человек. Весьма сомнительно, чтобы в этой фразе было высказано неуважение или желание принизить наших «двоюродных братьев». Такие подозрения в адрес женщины, даже атеистки, в 10-е годы XX века решившейся положить чадо свое — подобие божье — на алтарь науки рядом с детенышем животного, конечно же, должны быть сняты.
Подобные эксперименты продолжались почти в течение столетия и были успешно повторены В. и Л. Келег, К. и К. Хейс. Особый интерес к подобным экспериментам ознаменовал 70-е годы, когда американские ученые стали упорно искать у человекообразных обезьян зачатки второй сигнальной системы и в эксперименте начали применяться различные языки-посредники. Многие выводы H.H. Ладыгиной-Котс были подтверждены. В частности, было доказано сходство в раннем развитии познавательных способностей человека и шимпанзе. Более того, удалось доказать, что шимпанзе приблизительно к пяти годам способны усвоить то, что исследователи считали аналогом человеческого языка, на уровне детей 2–2,5 лет. Мало того, недавние эксперименты доказали, что при соответствующем воспитании у шимпанзе самопроизвольно проявляются элементы понимания устной речи. В работе З.А. Зорина и И.И. Полетаевой прямо указывается, что данные, полученные в исследованиях интеллекта обезьян с применением языков-посредников, «свидетельствуют об отсутствии разрыва в познавательных способностях человека и человекообразных обезьян»[36].
Каковы же эксперименты, которые привели к выводам о том, что качественный разрыв в познавательных способностях человека и человекообразных обезьян фактически отсутствует?
Приблизительно с середины XX века начинается серия интереснейших экспериментов, суть которых заключалась в попытке преодолеть «языковой барьер» между человеком и антропоидом. К этому времени знаменитые рассуждения Ф. Энгельса о том, как в процессе коллективного труда формирующийся из обезьяньего стада человеческий социум испытал настоятельную необходимость в особой форме общения, которая не занимала бы рук, и как, идя навстречу этой необходимости, наши предки начали постепенно тренировать свой речевой аппарат, совершенствуя и приспосабливая его к членораздельной речи, окончательно потеряли свою убедительность. Зоологи, исследовавшие анатомию антропоидов, и антропологи, работающие с останками архантропов, убедились, что строение гортани приматов абсолютно не приспособлено к воспроизведению членораздельных звуков даже при целенаправленной тренировке. Следовательно, общение посредством членораздельного языка или чего-то подобного ему было изначально невозможно. Проникнуть в сознание обезьяны попытались опосредованно, первоначально используя уже выработанный человеческой культурой довольно совершенный язык глухонемых. Этот язык обладает двумя способами передачи информации: системой жестового кода, подобной иероглифическому письму, где каждый жест или система жестов передает понятие, и еще более сложной системой, зрительно воспроизводящей звуковую речь, где с помощью пальцев кодируются звуки и которую можно условно уподобить буквенному письму. Конечно, в обыденном общении друг с другом и обученными их языку слышащими людьми для быстроты передачи информации глухонемые используют в основном понятийно-жестовый язык, подобный иероглифическому письму. Однако и жестовое обозначение звуков играет в субкультуре этих людей очень важную роль, причем не только для передачи имен собственных, редко употребляемых слов, географических названий и т. п., но и в большей степени для введения новых абстрактных понятий, для обозначения которых еще нет жеста-иероглифа.
Диалог, как частное проявление бинаризма, явление чисто человеческое, и если в монотеизме мы сталкиваемся с постоянными попытками выйти на диалог с Богом, хотя бы окказиональный, как у Иова, или с глубокой экзистенциальной тоской по такому диалогу, как у Экклезиаста, то XX век ознаменовался стремлением организации диалога с «братьями меньшими». Попытки выяснить, действительно ли такая возможность существует, предпринимались еще в начале века. Но результаты были неутешительны: человеческая речь оказывалась для обезьян недоступной. Однако неудачные попытки обучить приматов говорить не воспринимались как фатальная неизбежность. Р. Йеркс первым усомнился в «лингвистической неспособности обезьян». Ученые предполагали, что неудачи обусловлены лишь анатомо-физиологичес-кой неспособностью этих животных хотя бы к потенциальному воспроизведению членораздельных звуков и звукоподражанию. Л.И. Уланова и А.И. Счастный выдвинули гипотезы о возможности использования в подобных экспериментах языка жестов, однако эти гипотезы на практике проверены не были.
Первыми исследователями, вышедшими на прямой диалог с «братьями нашими меньшими», оказались американские ученые Беатрис и Алан Гарднеры. В общей сложности их исследование длилось более 20 лет. Фактически они начали с того, на чем остановилась H.H. Ладыгина-Котс. В 1966 году в их доме появилась Уошо — десятимесячная самка шимпанзе. Обезьяну воспитывали люди, постоянно общавшиеся между собой в ее присутствии только с помощью AMSLAN — жестового языка глухонемых. Исследователи исходили из гипотезы, что обезьяна, в силу свойственной ее природе подражательности, начнет копировать, передразнивать людей.
Сначала их ждала неудача. Животное пришлось специально обучать жестовому языку. Особенно трудно это было делать на начальном этапе эксперимента. Естественно, что экспериментаторы, обращаясь к жестовому языку американских глухонемых, амслену, использовали только его «иероглифическую» часть. Вообще Гарднеры не надеялись на большие успехи. Задачи, поставленные ими, были четко определены. Их интересовал довольно узкий круг вопросов: может ли животное запомнить символические жестовые знаки языка, построенного по правилам английской грамматики, и способно ли оно адекватно использовать их в разнообразных жизненных ситуациях? каков объем жестовой памяти животного (т. е. решался тот вопрос, который в свое время И. Ильф и Е. Петров решили для своей героини Эллочки Щукиной)? может ли обезьяна понимать вопрос и отрицание и, наконец, существует ли для нее порядок слов в предложении, то есть имеется ли в сознании обезьяны хоть какой-то уровень дискретности?
За первые три года обучения Уоши далеко оставила позади Эллочку-Людоедку. Ее «словарь» содержал 130 знаков, передаваемых сложенными в различные комбинации пальцами. Результаты Уоши не были уникальными. Другие шимпанзе так же успешно овладевали обширным «словарем» и широко и активно использовали его в самых разных жизненных ситуациях. Обнаружилось, что язык, усвоенный шимпанзе, обладает многими важными свойствами настоящего языка. Знаки этого языка были способны к передаче обозначаемых смыслов, мало того, обезьяны могли, варьируя уже усвоенные символы, порождать и понимать очень большое число сообщений, гораздо более обширное, чем их исходный запас. Они оказались способными, комбинируя известные им знаки, формировать названия новых, до того не названных или даже не известных им предметов. Так, Уоши, усвоив обозначение конфеты и питья, создала новое слово «конфета-питье», что обозначало арбуз, то есть новое лакомство, которое не просто сочетало в себе сладость конфеты и сочность питья, но и, как конфета, содержалось в собственной оболочке. Горилла Коко создает новое обозначение сладких молодых побегов бамбука из знаков «дерево» и «салат», то есть дерево, обладающее съедобными свойствами салата. Та же горилла, увидев в книге фотографию обезьяны, воспроизводила жест амслена — «Я».
Обезьяны буквально творили чудеса. Выяснилось, что эти существа живут не только одним мгновением, «здесь и теперь», но и способны употреблять знаки в отсутствии обозначаемых ими предметов. Так, например, та же Уоши, тоскуя по своей любимице, заболевшей собаке, с которой ее разлучили, демонстрировала жесты, обозначавшие собаку и боль. Все это говорило о формировании и хранении в мозге высокоразвитого животного мыслительных представлений об отсутствующем предмете. Следовательно, элемент языка-посредника употреблялся во временном и пространственном отрыве от обозначаемого предмета. Это свидетельствовало о потенциальной способности к самостоятельной символизации.
Обезьяны даже ругались, то есть употребляли слова не в прямом, а в переносном смысле. Причем этому второму, переносному смыслу их никто не обучал, как никто не обучал их принципу построения моделей двусмысленностей. Знаменитая Уоши была страшно эмоционально возбуждена и раздражена, потому что долго не могла утолить жажду. Служитель все не давал и не давал ей питья, игнорируя ее настойчивые просьбы. Она соединила два известных ей знака, один из которых означал имя служителя, Джек, а второй — слово «грязный», усвоенное обезьяной в прямом смысле и имевшее для нее отрицательное значение. Это сочетание знаков явно звучало как ругательство: «грязный Джек». Учеными зафиксировано, что этот знак, вводимый в «лексикон» шимпанзе в смысле «запачканный, покрытый грязью, не вымытый», разные особи употребляли, характеризуя бродячих котов, раздражавших их надоедливых гиббонов или ненавистный, стесняющий движения, душащий поводок. Сотворенная обезьянами модель была почти ругательством, почти двусмысленностью. Исследователи зафиксировали, что в момент употребления «двусмысленных» новообразований эмоциональное состояние обезьян определялось как досада, раздражение или ярость. Ни разу не было замечено даже слабых проявлений чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего смех.
Нетрудно понять, почему этот столь значимый для нас факт не был особо акцентирован исследователями. Материалы, демонстрирующие интеллектуальную близость человека и обезьяны, были так неожиданны, так ярки, так показательны… Казавшаяся непреодолимой до начала подобных экспериментов пропасть между человеком и обезьяной так стремительно сокращалась!.. Она действительно оказалась гораздо более узкой, чем думалось, но и гораздо более глубокой. Непреодолимой. Как всегда, древние оказались правы. В десятой главе книги III «Трактата о душе» Аристотель писал: «Из всех живых существ только человеку свойственен смех». Мало того, Аристотель считал, что смех является основной, кардинальной чертой, выделяющей и отделяющей человека от других представителей мира живых.
В XX столетии один из глубочайших исследователей генетических кодов культуры, архаической природы смеха, В.Я. Пропп, писал:
Животное может веселиться, радоваться, может даже проявлять свое веселье довольно бурно, но оно не может смеяться. Чтобы засмеяться, смешное нужно увидеть <…>. Ко всему этому животные неспособны, и всякие попытки (например, любителей собак) доказать обратное заранее обречены на неудачу[37].
Обезьяны действительно оказались гораздо ближе к людям, чем можно было предположить. Например, выучив всего 10 или 15 жестов, они сами, без подсказки человека, без специального обучения стали объединять их в двух- или даже четырехчленные цепочки, внешне очень напоминавшие предложения, которые произносят начинающие говорить дети. Экспериментаторы предполагают, что они, возможно, понимали не только значение, но и порядок употребления отдельных жестовых знаков. Например, «подойди — открой», «Уошо — пить — скорее», «дай — сладкий». Они «осмысливали» место нахождения предмета, направленность действия, не путали смысл фраз: «Роджер — щекотать — Люси» и «Люси — щекотать — Роджер», «Дай мне» и «Я дам тебе»; «Собака кусает кошку» и «Кошка кусает собаку». И хотя эти цепочки выстраивались из чисто эмпирических представлений, возникало устойчивое ощущение, что происходит если не дискретизация ситуативного континуума, то что-то очень и очень похожее на нее. Однако, несмотря на все эти захватывающие дух открытия, многолетние исследования так и не дали ответа на постоянно ставившийся учеными вопрос: способны ли обезьяны передавать информацию о смысле сигналов из поколения в поколение, делая это не благодаря врожденному инстинкту, а подражая и обучаясь? Материалов, даже косвенно подтверждающих возможность подобной «культурной преемственности», не получено. Окончательного ответа нет. Оптимистически настроенные исследователи высказывают осторожные предположения о такой возможности, которая, впрочем, до сих пор не подтвердилась.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Животные
Животные Поскольку утилитаризм предпочтений Сингера предполагает — при учете всех сопутствующих обстоятельств — содействие удовлетворению предпочтений и устранению фрустрации, можно утверждать, что его теория приложима ко всем существам, имеющим предпочтения, а к
[Я тоже эпикуреец]
[Я тоже эпикуреец] Т. ДЖЕФФЕРСОН — У. ШОРТУ31 октября 1819 г.Я тоже эпикуреец, как вы говорите о себе. Я рассматриваю подлинные доктрины Эпикура (а не приписываемые ему) как содержащие все рациональное в философии нравственности, что Греция и Рим оставили нам. Эпиктет, правда,
37) «РЕБЕНОК ТОЖЕ ИМЕЕТ СВОЮ СЕКСУАЛЬНОСТЬ» (ФРЕЙД)
37) «РЕБЕНОК ТОЖЕ ИМЕЕТ СВОЮ СЕКСУАЛЬНОСТЬ» (ФРЕЙД) Зигмунд Фрейд – великий австрийский философ и психолог. Он является родоначальником теории психоанализа, которая в современной науке, с небольшими оговорками, считается наиболее верной и истинной. Родился Фрейд в 1856
IV Третий источник неопределенности: объекты тоже активны
IV Третий источник неопределенности: объекты тоже активны Хотя уже само возникновение социологии ознаменовалось открытием, что действие захватывается другими силами, еще большим стимулом для нее оказалось этическое, политическое и эмпирическое открытие существования
§6. Тоже. Прокл
§6. Тоже. Прокл Как и во многих других отношениях, Прокл и в области теории элементов дает окончательные формулы, которые отличаются и своим анализом, и своей системой, и своим доведением общеантичной теории до окончательной ясности. 1. Определение элемента У Прокла
Мысли тоже нуждаются в контроле
Мысли тоже нуждаются в контроле Мир наших мыслей, бескрайний и неисчерпаемый, всегда отражает наше восприятие видимой и невидимой реальности, наше отношение к людям и событиям, наличие или отсутствие глубокого понимания законов и смысла бытия. Хотя в идеале наши мысли
ЧЬИ ЖИВОТНЫЕ?
ЧЬИ ЖИВОТНЫЕ? В.: Почему суфии столь много внимания уделяют чужим порокам и своим добродетелям?О.: На самом деле суфии не делают этого; так кажется только тем, кто с пристрастием относится к данной теме.Насреддиновская история о животных иллюстрирует подобный склад
ГЛАВА 3 «И ТЫ ТОЖЕ БУДЬ ГОТОВ»
ГЛАВА 3 «И ТЫ ТОЖЕ БУДЬ ГОТОВ» Не забывай, мой друг, здесь проходя: Таким, как ты, когда-то был и я. Каков сейчас мой вид, таков же будет твой. Готовь себя последовать за мной. Слова на надгробии в Эшби, Массачусетс Мой знакомый, занимавшийся некоторое время медитацией,
Глава 5 Управление материями. Виды и формы жизни. Животные и мозг. Прародитель человека, человек, общество
Глава 5 Управление материями. Виды и формы жизни. Животные и мозг. Прародитель человека, человек, общество Позвольте людям думать, что они управляют, и они будут управляемы. Уильям Пени «Тот, кто правит, должен видеть людей такими, каковы они есть, а вещи такими, какими им
Глава 6 Этапы эволюционных преобразований. Коэффициент социальной защиты. Живая клетка. Органы и системы организма. Животные и мозг. Эволюция прародителя и эволюция человека
Глава 6 Этапы эволюционных преобразований. Коэффициент социальной защиты. Живая клетка. Органы и системы организма. Животные и мозг. Эволюция прародителя и эволюция человека Не такого зла, которое не порождало бы добра. Франсуа Вольтер «Гипотезы – это леса, которые
VI Животные
VI Животные Нам кажется странным это царство Природы, где превосходство чувств над прочими свойствами привело к тому, что и у людей в отношениях с животными возникают самые разнообразные эмоции. Мы боимся их, любим их, мы к ним безучастны – но едва ли мы восхищаемся ими,
Глава 1. Четырехкратная классификация Аристотеля разумных, материальных субстанций: неорганические объекты, растения, животные, люди (Философские игры)
Глава 1. Четырехкратная классификация Аристотеля разумных, материальных субстанций: неорганические объекты, растения, животные, люди (Философские игры) В этой главе рассматриваются критерии, с помощью которых Аристотель проводил различие между живыми и неживыми