Дрепало
Дрепало
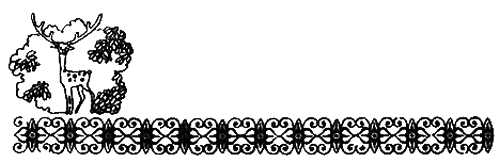
Даже южные склоны хребтов были покрыты снегом, на сахарной, слепящей белизне парк чернел землей и зеленел травой с необыкновенной отчетливостью. Тонкие нераспустившиеся деревья, освещенные снегом со всех сторон, вырисовывались так, будто их каждое утро обводили мягким серым грифелем: явственно и в то же время чуть размыто. Да и в самом парке, хотя уже начался май, снег сошел совсем недавно, дорожки набухли, дышали, и по ним еще почти никто не ходил.
Этот оттаивавший томительно парк еще больше, чем острый воздух и плотный снег, напоминал о том, что мы в горах, высоко — две тысячи сто над уровнем моря. И только вечерами, при незажженных фонарях, когда яркое и шевелящееся, как в планетарии, южное небо опускалось все ниже, он, казалось мне, оживал. Его населяли в эти часы олени, и пантеры, и кентавры, и женщины, похожие на Нефертити. Каждый раз можно было увидеть что-то новое, настолько реально живое, что хотелось искать на мокрой, Черной земле отпечатки ног. Ежевечернюю эту игру затевали вулканические валуны, там и сям разбросанные по парку. Как и любой камень в горах, были они умяты ветром и обточены водой до более или менее различимого образа: мифического существа, реального животного, человека.
Чем явственнее оттаивал парк, тем больше нравились мне эти камни — уже не только вечерами, но и по утрам.
На траве, зеленеющей все темнее, под разжимающимися, как крохотные кулачки с синеватыми от напряжения ладонями, почками они покоились устойчиво, даже величаво; серая, неровная тысячелетняя фактура хорошо оттеняла мимолетную красоту высокогорной весны. Я невольно воображал, как зримо хороша и глубинно оправдана эта фактура летом, когда в парке распускаются розы, и даже усматривал все отчетливее особый умысел в точном, как мне казалось, и умном расположении камней.
И вот об этом-то я и заговорил однажды со стариком, которого в последние дни встречал каждое утро на подсыхавших дорожках. Высокий, худощавый и подвижной, с темно-коричневым лицом, накрепко обожженным солнцем, он, чуть откидываясь назад головой и плечами — движение, абсолютно несвойственное старикам, — ощупывал уже совсем живые ветки берез или, осторожно опустившись на корточки, перебирал землю такими же темными, как лицо, руками.
— Хороши камни? — тихо рассмеялся он, выпрямляясь. — Да!.. А вы бы их посмотрели лет пятнадцать назад на болоте.
— На каком болоте? — не понял я. — Вы что же, возили их сюда… с болота?
Отдышавшись после долгого радостного смеха, старик посмотрел мне в лицо уже серьезно, с оттенком иронического удивления.
— Разве это стронешь с топкого места? Мы бы тогда охотно уволокли их отсюда, да… сокрушенно развел руками. — А вышло к лучшему, — опять рассмеялся, — вышло, что без них-то и парка бы не было такого. Да? И если бы сегодня можно было камни убрать, я бы защищал их, как деревья, ну, к слову, как эту… — Он повел меня куда-то вглубь, размашисто шагая. — Эту ель!
Невольно я подумал о том, почему он потащил меня сюда, — ели стояли и там, где мы разговаривали.
— Именно эту? — дотронулся я до дерева, ничем не отличавшегося по виду от остальных. — Особая она?
— Она не особая, — ответил старик неожиданно строго. — Самая обыкновенная, серебристая. Только ехали мы сюда вчетвером: я, старуха моя и два дерева — ель и береза. Деревья вот живы. Это и то, потом покажу.
Я вдруг понял, что он очень стар, что ему за семьдесят, и понял это не по лицу, не по рукам, не по походке, а по голосу, когда он сказал, что деревья, с которых и начался парк, еще живы.
Когда он смеялся, голос у него был совсем молодым — смех как бы возрождал его. Но сейчас ему не смеялось, и я услышал его семьдесят лет.
— Должно быть, тогда и города еще не было, во времена болота? — сказал я.
— У! — рассмеялся он опять. — Города! Вот домишко был этот — видите, двухэтажный, лесничества. В нем и собрали ботаников со всей страны…
— Зачем?
— Зачем?! — удивился он даже горестно моей неосведомленности. И, откинув голову, посмотрел широко вокруг как бы для того, чтобы вернуть утраченное на миг ощущение реальности, удостовериться, что мы стоим посреди распускающегося парка, а не на том болоте. — Ну да… — улыбнулся по-детски непоследовательно, — вы ведь не слыхали про ту звезду…
Молча ждал я разъяснения.
— Стоит ли зажигать звезду, если хорошо известно, что она погаснет, не успев вспыхнуть?.. — Он выговорил это замедленно, будто восстанавливая в памяти стихи, забытые давно.
И тут его позвали женщины, распаковывавшие неподалеку ящики с рассадой, и он, поклонившись мне с какой-то старинной грацией, быстро ушел. Я слышал издалека его смех. Ветер доносил чудесный запах рогожи. Он ушел, оставив меня с чувством, которое испытываешь в детстве, когда найдешь, бывало, книгу без начала и конца, оказавшуюся, как назло, безумно интересной на случайно раскрытых страницах.
Быстро теплело, чернели все шире южные склоны гор, и теперь я видел старика каждый день работающим в парке. С несколькими женщинами он рыхлил землю, высаживал рассаду и луковицы, над чем-то колдовал, что-то мастерил. Я пытался, и не раз, возобновить наш разговор, но он, занятый делом, отвечал односложно и не по существу, точно отмахиваясь. «Завтра будут у нас розы, послезавтра опять рассада». Или: «Завтра у нас — пустырь за родником, послезавтра — тут георгины». Он повторял без конца: «Завтра — послезавтра». И я, не успев услышать его подлинного имени, дал ему про себя это: «Старик Завтра-Послезавтра».
Разумеется, потом я узнал, как его зовут в действительности — Кирилл Сергеевич Дрепало, но про себя называл его по-прежнему: Старик Завтра-Послезавтра. И чем больше реальных подробностей его жизни узнавал, тем сильнее любил это вымышленное мной имя, похожее на имя героя волшебной истории.
Старика Завтра-Послезавтра позвали сюда после того, как разъехались ботаники, собиравшиеся в домике лесничества близ обширного, засыпанного огромными вулканическими валунами болота. Раньше многие годы он выращивал лес в высокогорных районах. Вместе с елью, сосной, березой Старик Завтра-Послезавтра поднимался все выше и достиг тысячи шестисот метров над уровнем моря. Поэтому, видимо, на него и возложили уникальную миссию: создать один из лучших парков в республике — а может быть, и в стране — на высоте более двух тысяч метров. От того, быть или не быть этому парку, зависело во многом будущее высокогорного селения Джермук (в переводе на русский — Горячая вода), быть или не быть ему курортом союзного, а может быть, и мирового класса. Химически Джермук почти не отличается от редкостно благоприятных по целебным качествам карлововарских источников. Но одной воды мало: нужен целый город с санаториями, ресторанами, эстрадами, разнообразием улиц, витрин, огней… Строить можно и на большей высоте, а вырастить парк? Парк, который бы «стягивал» к себе весь город…
Попробуйте вообразить аллегорические фигуры Экономики, Эстетики, Этики — именно они в то время и окружали, как рисуется мне сегодня, мрачную топь с тысячелетними валунами, ожидая решения собственной участи. Я первой назвал Экономику, но, несмотря на отчетливо заманчивые экономические перспективы, которые открывало рождение большого, с мировым именем, курорта, видимо, центральной была в этом воображаемом содружестве аллегорическая фигура Этики, олицетворявшая ни с чем не сравнимые ценность и радость исцеления. И вот стояли они у болота, а в реальном домике совещались реальные ботаники.
После этого и появился Старик Завтра-Послезавтра с женой и двумя деревьями: елью и березой. «Стоит ли зажигать звезду, о которой хорошо известно, что она погаснет, не успев вспыхнуть?»
Ботаники на совещании высказывались по двум вопросам. Первый был строго конкретным: можно ли на этой высоте, в этой местности, построить обширный парк, состоящий из многих сотен ценных видов деревьев и растений?
Большинство ученых выразили серьезные и обоснованные сомнения: изменчиво-мимолетна «полоса тепла», не успеют распуститься, расцвести растения, без которых парку не обрести красоты и разнообразия.
Второй вопрос был более отвлеченным: стоит ли затрачивать колоссальные усилия (болото, вулканические камни, 2100 метров над уровнем моря и т. д.), чтобы создать нечто живущее явственно два с половиной — три месяца в году, а остальное время остающееся «вещью в себе», требующей от окружающих самого активного внимания по поддержанию запасов жизни? Метафорически этот вопрос формулировался в образе звезды, которая…
Отношение мое к Старику Завтра-Послезавтра и его работе тоже можно было разделить на эти два вопроса: конкретный и отвлеченный. Как и большинство моих современников, избалованных чудесами, лежащими на поверхности, я не особенно восприимчив к чудесам, совершающимся, так сказать, в более глубинных сферах жизни. И не вызывает у меня большого доверия версия, по которой сонм ученых говорит «нет!», а обыкновенный лесовод не говорит — совершает! — «да!». По существу, я отнесся к этой истории, как к легенде, игре фантазии местных фольклористов, воодушевленных колоритной фигурой Старика Завтра-Послезавтра.
Гораздо больше волновал меня второй, отвлеченный вопрос: о звезде. Это, по-моему, один из самых глубоких и «вечных» философских вопросов. Но родился он намного раньше, чем родилась философия. Видимо, он неосознанно мучил и баснословного пращура, пытавшегося выдавить искру из деревяшек, размокавших от пота в его обессиленных ладонях, решавшего тяжко: не стоит ли подождать молнии, которая воспламенит сухие ветки ближнего дерева? Тысячи лет этому сомнению, и остается оно, к счастью, сомнением, потому что каждый раз человек находит в себе силы стать выше его.
Решая: быть парку! — Старик Завтра-Послезавтра ответил на вопрос о смысле жизни, о высших целях человеческого существования.
Да, стоит зажигать звезду, потому что, погаснув, она возгорится снова, опять. Этого великого «опять» не понимает и никогда не поймет голый рационализм, строго, с арифметической точностью соотносящий затраченные усилия с ближайшими результатами.
Шумела водопадами поздняя высокогорная весна, и под этот шум парк оживал все отчетливее. Еще не было красок, кроме тех, ранних: зеленой — травы и хвои, — и черной — земли, но все явственнее вырисовывалась композиция (круги, квадраты, игра изящных линий…), форма опережала цвет, как и должно быть в любом рождении. И чувствовалось, что настает та высшая минута, когда полнота жизни обнаружит себя и в цвете.
Самая напряженная пора посадок была позади, Кирилл Сергеевич стал чуть словоохотливее. Кроме традиционных «завтра-послезавтра», он сообщал мне — разумеется, весьма лаконично, — что сумел доставить с высокогорных пастбищ хорошо унавоженную землю и получил из далекого питомника долгожданные редкие семена неприхотливых к теплу гладиолусов.
Весна шумела, ширилась, на южных склонах хребтов уже сморщились фиалки, и все говорили, что вот-вот зацветут большие маки («яркие, как на картинах Сарьяна»), и все шло хорошо. Старик Завтра-Послезавтра носился по парку, колдовал, смеялся. И в это время, когда никто не ожидал ее, разразилась беда.
Через восточный хребет перевалила низкая туча, небо сплошь потемнело, к вечеру пошел снег, утром мела метель, белая, жестокая, сухая, столбик ртути упал до десяти ниже нуля. В последних числах мая вернулась зима.
Я стоял у окна, за которым было непроглядно бело, и думал о Старике Завтра-Послезавтра. С беспощадной подлинностью ощущал я незащищенность его звезды, которую задувал этот ледяной, бьющий наотмашь ветер. Метель гудела; и если бы я верил в нечистую силу, то решил бы, что все это бесчестные проделки Мефистофеля, который, как известно, окончательно потерял покой с тех пор, как Фауст вздумал осушать болота.
В союзе с нами
против вас стихии,
И ты узнаешь силы
роковые…
Нечего было и помышлять о том, чтобы выйти из дому в легком плаще. И вот однажды, когда я сидел у белого окна, ожидая, пока утихнет метель, мне рассказали историю, будто бы выхваченную из растрепанного, зачитанного до дыр тома Андерсена, — историю о том, как город Джермук каждый год празднует день рождения Старика Завтра-Послезавтра. Я слушал и видел ослика — он как бы вылупился из вьюги, — увешанного охапками цветов; эта большая живая клумба с милой, простодушно-лукавой, кроткой мордой открывала шествие, такое неожиданно живописное, яркое, странное, что я, не отрываясь от него мысленно, несколько минут не замечал метели. За осликом шли дети с розами, георгинами, астрами, гладиолусами, мужчины, женщины, старики… Они направлялись к парку, где в тенистой аллее были накрыты столы, чтобы поднять стаканы вина за Старика Завтра-Послезавтра.
Когда видение это исчезло и окно опять стало бессодержательно белым, я заметил откровенно и невольно бестактно человеку, который рассказывал мне о днях рождения Кирилла Сергеевича, — мэру Джермука Завену Георгиевичу Вартаняну:
— Все это чересчур красиво. Не похоже на явь.
— Не похоже на явь? — повторил он. — А то, что он совершил, похоже на явь?
— Пожалуй, — согласился я, — это больше похоже на чудо.
— Не верится? — понимающе посмотрел он мне в лицо. — И не вам одному. Этому действительно нелегко поверить: обыкновенный старик лесовод оказался умнее ученых. А он не умнее, нет, чудо не в уме — чудо в любви. Умнее они, потому что все измерили и учли: и высоту, и сроки созревания, и направление ветров, и капризы погоды… Но есть вещи, которые трудно измерить и учесть. Вот, я читал, все газеты мира рассказали об англичанине: на седьмом десятке в легком суденышке, один он пошел вокруг света… Это, конечно, достойно большого уважения, потому что показывает и мне и вам, на что способен человек. Но больше величия в том, чтобы тоже на седьмом десятке, оставив родной дом, родной лес, подняться сюда и совершить невозможное. А замечательно это невозможное тем, что состоит, в сущности, из обыкновенных возможностей. Ложиться каждый раз за полночь и подниматься в шесть, писать во все питомники страны, собирая семена и черенки, построить у себя опытную оранжерею и еще раньше — до черенков и оранжереи, — когда вся техника вышла из строя, ворочать камни и усмирять топь собственными руками. То, что кажется невозможным, рождено любовью. К родной земле, к человеку. Парк ярко цветет два с половиной, может быть, три месяца в году. Но и в остальное время он держит наш город. Такая в нем сила. Вот мы и отмечаем день рождения Кирилла Сергеевича как большой день города. Уже три года. С семидесятилетия, когда его поздравила вся Армения, от Совета Министров до маленьких лесничеств…
Дня через два «силы роковые» утихомирились. Но снег еще лежал, медленно оплывая. Теперь парк стал трехцветным: белым, зеленым и чуточку черным.
Старик, наклонившись, погружал руки в оживавшую землю. С болью ожидал я увидеть горестное, отчетливо постаревшее лицо, но он еще издали широко улыбнулся мне, будто успокаивая, утешая.
И я вдруг подумал, что вот бабка его, из молокан, сосланная Екатериной с Херсонщины, шла сюда, в Армению, с семьей пешком три года, а он в наш сверхскоростной, сверхреактивный век поднимался вместе с деревьями на эту высоту семьдесят четыре.
— Высадим тут новую рассаду, — закричал он мне, — а завтра раскутаем розы!..
— А послезавтра? — попытался я улыбнуться.
— Будет и послезавтра, — ответил он мне без улыбки, строго.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК