Тревизан-15
Тревизан-15
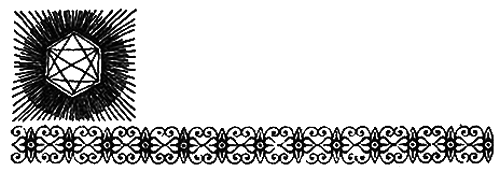
Умирая на острове Родосе, Бернард Тревизан высказал одну из тех истин, которые кажутся на бумаге беззащитными, хочется, чтобы, утратив черноту, строки ушли от иронии читателя в белизну листа.
Вот эти-то детски-наивные истины и ранят особенно больно, когда ощущаешь их живое родство с человеческой судьбой. Чтобы добыть подобную истину, нужны долгие раздумья, тяжкие жертвы, бессонные ночи. Бернард Тревизан дорого заплатил за истину, которую высказал, умирая, 500 лет назад:
— Золото можно делать только из золота.
Он родился в начале пятнадцатого столетия в старинном итальянском городе Падуе. Дед рассказывал мальчику об исканиях алхимиков, желавших найти таинственное вещество, с помощью которого можно облагораживать металлы, обращая их в чистое золото. Это вещество называли по-разному — философский камень, великий эликсир, магистериум, тентура… Оно могло быть, если верить деду, и универсальным лекарством: раствор его — золотой напиток — дарует исцеление, долгую молодость, а возможно, и бессмертие. Золото из неблагородных металлов умели в баснословно далекую эпоху делать в Египте. Существовали даже рукописи, повествовавшие о тайнах этого искусства. Но были они уничтожены в III веке по повелению императора Диоклетиана. Он опасался, что золото алхимиков наводнит Рим и обесценит государственную казну… Более десяти столетий люди одержимы желанием получить универсальный порошок — философский камень, — ставят опыты, ищут, растворяют, не отходят сутками от печей, опять наполняют реторты таинственными жидкостями, питают безумные надежды… Их темные лаборатории окружены легендами.
Рассказы деда волновали мальчика: может быть, именно он, Бернард Тревизан, вернет человечеству утраченную тайну, добудет могущественный философский камень. В семье его поощряли, надеясь, видимо, на колоссальное богатство. Возможно, и самому Бернарду не была поначалу чужда веселая мальчишеская мысль о бесчисленных сундуках, набитых золотыми монетами. Но с течением лет она тускнела, и потом, когда Бернард истратил на опыты даже те деньги, что достались ему по наследству, в его охваченном безумием искания сердце не оставалось места даже для мимолетного помышления о богатстве. Золото стало для него чем-то живым и беспомощным — дивным растением, выращенным в сухой, каменистой почве. Если ребенком он, возможно, и думал наивно о деньгах, то в 70 лет, нищий, одинокий, но не утративший мальчишеской веры в чудо, он видел в золоте дерево детства. Да, я думаю, что по ночам, засыпая беспокойно в тесной лаборатории, загроможденной печами, перегонными кубами, раздувальными мехами, он видел его в образе дерева в желтой, излучающей тусклое сияние листве. Если человек высшее создание, украшение мира, то почему бы именно ему не вырастить лучший из металлов, похожий на солнце и, может быть, являющийся его лучом, уплотненным в твердое, весомое вещество.
Тревизан был самым возвышенным и бескорыстным из алхимиков, с явственно развитым поэтическим восприятием действительности, что, несомненно, объяснялось эпохой, в которую он жил. То был первый расцвет Возрождения на Севере Италии, его весна, начало великой эпохи. Бурлило новое отношение к жизни — новое, напоенное солнцем этого удивительного мира вино. Но оно бурлило порой, — что естественно в переломную эпоху — в старых мехах. По картинам художников раннего северо-итальянского Возрождения Пизанелло и великого Мантенья, который был на целых четверть века старше Бернарда Тревизана, можно ощутить атмосферу и города и столетия. Вокруг беспокойных, почти врубелевских фигур ворожит готика, мы видим по-новому понятных людей, людей Возрождения, на фоне готических стен и куполов. Это Пизанелло. А на неприступно суровых полотнах Андреа Мантенья — живое небо, высокие облака, бесконечная даль и… жестокий дух аскетизма, дух первого тысячелетия. В этом удивительном пейзаже века, соединившем настроения разных эпох, отразилась не только начальная пора Возрождения, но и атмосфера Падуи, города, «пододвинутого» к самым стенам северной Европы. Но хотя на картинах фон действия менялся медленно, в жизни люди уже устали от замков, темниц с их башнями, угрюмых улиц, недостроенных соборов, нарастала жажда красоты, тоска по античному миру, в котором видели естественное величие; то была эпоха, когда хотелось вернуть утраченное, опять разбудить чудо жизни.
Ученые-гуманисты и художники раскапывали землю, рылись в обломках, искали рукописи, статуи. По Италии ходили легенды о фантастических находках; рассказывали, что у Аппиевой дороги при раскопках найден нетленный труп девушки несказанной красоты, умершей почти две тысячи лет назад, в эпоху Фидия. Почему же легенда об алхимиках волновала Бернарда Тревизана больше этой, побуждающей к тому, чтобы оживить «золотую античность», украсить мир искусством, ощутить вечную красоту человека? Почему он ушел от живой действительности с высоким небом, с беспокойными дорогами, с женщинами и веселыми детьми в темную, отравленную едким дымом лабораторию? Но в том-то и дело, что в эту фантастическую лабораторию с ее печами, ретортами, мехами ушел человек нарождающегося нового мира, с его сосредоточенной любовью к натуре, трудно утолимой потребностью в исследовании, желанием оживотворять и одухотворять любую подробность действительности.
Люди высокого Возрождения часто совмещали в себе ученых и художников. Тревизан был ученым, художнически воспринимающим то, с чем имел дело. Уже само его понимание золота как растения, как чего-то живого, что он должен не получить, не создать, а вырастить, говорит о мышлении большой эпохи и о чувстве художника.
Он был убежден, что постепенно, с течением веков или тысячелетий неблагородные металлы сами собой, естественно станут золотом, потому что мир восходит от низшего к высшему. Золото в недрах земли тоже не было создано в единый миг. Оно появилось подобно растению. Его семена были посеяны раньше, в самом начале миротворения, оно в отдаленную эпоху было веществом менее совершенным. О если бы раскрыть тайну этого роста, восхождения к совершенству! О если бы постигнуть величайший из секретов, с помощью которого можно естественно получать великие ценности — алмазы, золото!
И он начинал думать о человеке. Не вырос ли человек, подобно золоту, постепенно и естественно из менее совершенных существ? Не существует ли единого универсального ключа к этим великим тайнам? В Человеке завершен труд Космоса, как завершен он и в золоте. И если будет найдена возможность не в течение тысячелетий, а чудодейственно выращивать золото из чего-то несравненно более раннего, ну из олова, то почему бы?.. Он не осмеливался додумывать эту мысль, но мечта о возможном высоком совершенстве мира томила его в долгие бессонные ночи, когда он испытывал в перегонных кубах новые и новые, порой самые фантастические вещества.
Терпение Тревизана было беспредельным. Он ставил опыты растворения и кристаллизации различных минералов и натуральных солей. Сотни раз испытывал квасцы, медный купорос, разнообразные вещества растительного и животного мира. Он обрабатывал травы, цветы, навоз, масло… Казалось, в мире не осталось ничего, что бы не подверг он варке, расплавлению, воспламенению, очищению, выпариванию.
Ни разу еще не улыбнулась ему удача. Но он, не теряя надежды, колдовал у печи, бормоча: от несовершенного к совершенному, золото — самый совершенный из металлов, человек — благороднейшее существо…
Вот я вижу его, уже постаревшего, в тесной, сумрачной лаборатории. Он варит в огромных котлах с кипящей водой две тысячи куриных яиц, потом осторожно освобождает их от скорлупы, собирает ее, нагревает на небольшом огне, пока она не делается белой, как снег, а помощник отделяет белки от желтков, потом перемешивает их с навозом белых лошадей. Вот уже восемь лет перегоняют они эти вещества, надеясь получить могущественный, универсальный растворитель, а с его помощью и философский камень, выполняющий за часы и дни тяжкую таинственную работу тысячелетий. Восемь лет одно и то же: котлы с кипящей водой, куриные яйца, навоз белых лошадей. (Доверчивый Тревизан был постоянно окружен шарлатанами, вероятно, один из них открыл ему «секрет», что лошади должны быть именно белые.) Сегодня — решающий опыт, осунулось, побледнело его лицо после бессонной ночи, кажутся беспомощными беспокойные руки. Я вижу его, ощущаю, понимая и не понимая, с тем, в сущности, загадочным удивлением, с которым порой мы наблюдаем ребенка как существо иного мира, наблюдаем растроганно, отрешенно, будто бы сами никогда не были детьми. Я ловлю себя на мысли, что Бернард Тревизан — это я сам, но мальчик, ничего, что у него седая голова и морщинистые руки. Он ребенок и лишь кажется существом иного мира. Это мир, из которого вышел, вырос и я, и не нужно удивляться ни двум тысячам куриных яиц, ни котлам с постоянно кипящей водой, ни даже белым лошадям. Разве не было у меня в детстве моих белых лошадей, чего-то кажущегося теперь забавным, а тогда волновавшего воображение, не дававшего по ночам уснуть: деревья с синими листьями… черный жемчуг… белые лошади. Мир — чудо, мир — обещание…
Золото и на этот раз, после восьми лет однообразных и захватывающих опытов, ускользнуло от Бернарда Тревизана, но это не ослабило ни его беспокойного духа, ни его веры в удачу.
— Я найду, найду семя, — говорил он себе, — и оно даст обильную жатву золота. Я открою величайшую тайну мира и избавлю человечество от нищеты. Из мертвого рождается живое, из несовершенного — совершенное. Из трупов и навоза животных — пчелы, шершни, жуки и осы. Они существа живые и более совершенные, чем металлы, даже золото. Я найду…
И он опять, не уставая, ищет, ставит опыты, не падает духом. Деньги его растаяли, он физически одряхлел, но огонь, пожиравший его изнутри с юных лет, не утихнул.
Теперь он с тем же редкостным терпением перегоняет спирты. «Я буду перегонять их, — говорит он, — пока найдутся достаточно надежные для них сосуды». Голодая, он работает в лаборатории, уже похожей на темницу, 15 лет, пока не убеждается в том, что не создаст на этом пути философского камня. Затем он переносит лабораторию на берег Балтийского моря, уверовав, что тайна «великого эликсира» содержится в морской соли. И он перегоняет ее днем и ночью больше года, пока есть хоть малейшая надежда, что из соли он построит философский камень. Когда не остается и тени надежды, он нащупывает, не давая унынию собою владеть, новую путеводную нить: растворяет серебро и ртуть в очень сильной смеси кислот, царской водке, затем, соединив оба раствора, помещает тигели на открытом воздухе, чтобы на жидкости сильно воздействовали солнечные лучи. «Солнце, — думал он, — создает металлы, нагревая через поверхность недра земли. Я облегчаю эту работу. Разве золото не чудное растение, формирующееся там, в недрах? Разве алмазы не вырастают опять на том же самом месте, где они когда-то были выкопаны? И разве не рассказывали мне бывалые люди, что иногда закрывают шахты, чтобы дать возможность металлам вырасти? Расти, расти, золото, под открытым солнцем!»
Теперь он кажется мне добрым колдуном из моих детских историй-снов. Вот он сидит на берегу моря, наполняя фиал за фиалом волшебной жидкостью, ожидая великого чуда. И я хочу, чтобы оно совершилось, как хотел в детстве, чтобы у героев моих фантастических историй получилось то, что они задумали, захотели. Вырасти, лес, на пути у настигающей мачехи, рухнете, стены замка, сезам, откройся, вырасти, золото, в тигеле несчастного Бернарда!
Не выросло… И Бернард Тревизан, а было ему за пятьдесят, решил искать алхимиков более удачливых, чем он сам. Он исходил Германию, Испанию, Францию, посещал таинственные лаборатории, совещался с теми, кто, как и он, жаждал абсолюта. Странны были речи этих людей. «То, что внизу, подобно тому, что наверху, а то, что наверху, подобно тому, что внизу». «Посредством этой силы создан мир, надо ее понять». «Может быть, золотое руно, которое искали аргонавты, и было книгой по алхимии из овечьей кожи?» «Отец этого — Солнце, мать — Луна, ветер поддерживал его в материнском чреве, а кормилица этого — Земля». «Изумрудная таблица Гермеса — не описание ли философского камня?» «Его умели делать и в Египте, его не умеют делать сейчас». «Но если то, что внизу, подобно тому, что наверху…» В этих кажущихся безумными речах несмело пульсировала мысль о единстве мироздания, о таинственном законе восхождения бытия и о силе, раскрывающейся мощно на высших ступенях развития, о возможности овладеть этой силой, чудодейственно убыстрить ее…
Многие честные — алхимики были талантливыми учеными и пытливыми мыслителями, наивными материалистами, они немало содействовали рождению подлинней науки — сегодняшней химии.
Бернард едет на Восток, чтобы в старой Александрии рыться в тысячелетней давности манускриптах в поисках утраченной и забытой тайны философского камня. На это ушло четыре года. Он не нашел заветной рукописи. И я опять его мысленно вижу листающим с важной сосредоточенностью желтый, тихо истлевающий пергамент. Ему уже шестьдесят, и золото волнует его теперь не как самый дорогой из металлов, а как подтверждение: абсолют найден, открыта тайна универсальной силы, которая действует в мире, ведя его к совершенству. Эта сила может возвращать радость молодости одряхлевшему телу и даже даровать бессмертие.
Нет, не мог Диоклетиан уничтожить полностью все таинственные рукописи. Наверное, что-то сохранилось. Надо искать. И он ищет одержимо и неторопливо.
Потом, тоскуя по живому делу, начинает опять экспериментировать. У него зарождаются новые идеи. Нищий, он одалживает деньги у одного купца, наивно надеявшегося, что алхимия умножит его состояние, и начинает обрабатывать уксусом редкую железную руду. Поиски захватывают его настолько, что он почти не спит, не ест, не пьет, не выходит из лаборатории и отравляет себя ядовитыми парами; изможденный, худой, физически жалкий, он не разрешает себе отчаяться, окончательно потерять надежду, он ищет до тех пор, пока не тратит на материалы последнюю монету… Потом, разбитый физически и духовно, одинокий, беспомощный, он возвращается в родную Падую. Семья отворачивается от него, город не узнает. Пока он, безумно растрачивал честно нажитые родителями деньги, искал мифическое золото, Падуя нашла естественное, единственно реальное: она богатела, торгуя, развивая ремесла. Ее украшали талантливые художники, чьи мастерские были уже хорошо известны в Италии. Появились в Падуе и первые музеи-кунсткамеры с диковинами и редкостями мира. Солнце Возрождения хорошо освещало город, он казался менее суровым и старым, но Тревизана не понял и не пожалел. Новое поколение детей, веселых и более жестоких, чем бывают печальные дети, потешалось над Тревизаном, когда он появлялся на улицах, и лишь одна девочка по имени Лавиния, как отмечает его биограф, жалела старика, любила его рассказы об удивительных тайнах мира.
О чем он с ней говорил? Как выражалось ее сочувствие? Мысленно вижу их на улице старого города…
Но в нем тлела, тлела тоска по тайне золота! Он удаляется на остров Родос и с этой минуты делается для меня фигурой уже совершенно фантастической, волшебной. На острове он находит в развалинах монастыря книги старых философов — Платона, Аристотеля, Плотина. Теперь ему кажется: чтобы найти, создать философский камень, нужно понять сокровенную суть мира, первоосновы бытия. Им овладевает жажда познания. Десять лет он читает и перечитывает старых философов, углубляется в их мысли, тоскуя по истине…
Однажды во сне он увидел Сократа.
На берегу моря они сидели рядом на камне. Сократ поглаживал ладонью камень и говорил: «Чем больше согревает его солнце, тем радостнее на нем сидеть». — «Да», — соглашался Тревизан, довольный что Сократу с ним покойно и хорошо. «А тебе хотелось бы, чтобы этот камень стал большим куском золота?» — доброжелательно улыбаясь, осведомился Сократ. «Нет, — искренне ответил Тревизан, — не хотелось бы». — «Ты боишься, что мы с тобой поссоримся из-за обладания им?» — улыбался Сократ. «Нет, — ответил старый Бернард, — я не хочу этого, потому что на камне удобнее сидеть, в этих углублениях тело отдыхает». — «Да, для нас с тобой этот камень лучше куска золота, — задумчиво согласился Сократ и задал потрясший собеседника вопрос: — Может быть, это и есть философский камень?» Тревизан почувствовал, что побледнел, и Сократ его успокоил: «Я пошутил, Бернард, я назвал его философским потому, что нам с тобой хорошо на нем сидеть и размышлять, беседовать, но если подумать, может быть, иного философского камня нет и не может быть?» — «Иного, чем этот?» — ощупывал его руками, удивляясь как ребенок, Тревизан. «Нет, — рассмеялся Сократ, — иного, чем этот», — и показал, что они с Тревизаном и камень под ними одно целое. — «Человек и мир, мир и человек…»
Через день Тревизан умер.
Умирая, он высказал одну из тех истин, которые кажутся банальными: «ЗОЛОТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ИЗ ЗОЛОТА».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Музыканты (Тревизан-30)
Музыканты (Тревизан-30) С самого утра ей казалось, что откуда-то издалека доносится духовая музыка. Одеваясь, потом завтракая, она то и дело подбегала к открытому окну.Улица была пустынна. С моря дул ветер.Она стояла, пытаясь расслышать в этом шуме далекие трубы и барабан.