VI «Или ты один из духов, богом проклятых?..»
VI «Или ты один из духов, богом проклятых?..»
В Гургандже все было новым для Ибн Сины. Город тесный, крикливый. «Идешь по его улицам, как по базару, — говорит Якут. — Нигде в мире нет такого густонаселенного Места».
Зима. — холодная, трескаются даже забытые во дворе кувшины с водой. Накрыл их Ибн Сина шубой, все равно треснули. А пока несешь воду от канала до дому, замерзает она в кувшине. Именитые горожане ходят в Красных плащах, отороченных мехом. У Хусайна нет такого плаща. Заказал сшить еще летом, портной до сих пор шьет. Здесь вообще все делают медленно. Лук два года мастерят, но зато какой получается лук! Только самые сильные могут его натянуть. Так что и шуба, может, получится и отличная.
Разговаривают хорезмийцы громкое будто кричат скворцы. Вместо приветствия говорят: «Поднимемся ко мне, у меня сегодня хороший огонь». Даже нищий войдет и прямо садится к огню. Отогреется, потом сидит, молчит. Просить здесь не принято, надо самому подать нищему хлеб, тогда он уйдет. Очень гордые хорезмийцы. Недаром Их не смог завоевать Александр Македонский.
Когда-то Хорезм — «Айран-Ваэджо»[66] был «первой из наилучших местностей и стран, что создал Ахура-Мазда (Бог Добра)», — как говорит «Авеста» — древняя книга зороастризма. Орошался рекой Ванухи-Даитья[67]. Но разозлился на что-то Ангра-Манью (Бог Зла) и сотворил Хорезму змею, зиму и пустыню. Да, зима здесь ужасная… Пустыня и зима — хранительницы независимости Хорезма. Главная площадь Гурганджа похожа на главную лошадь Бухары, удивился Ибн Сина, Ворота дворца, выходящего на площадь, говорят, самые красивые ворота во всем Хорасане. Только здесь есть такие удивительные мастера резьбы по дереву. Каждая дверь — произведение искусства. Некоторых из них по 200–300 лет. Они черные и крепкое, как железо.
В середине города — пастбища для пригоняемого на рынки скота. В Константинополе, столице Византии, в середине — поля пшеницы, как слышал Ибн Сина от купцов.
Хусайн бродит по улицам, базарам, особенно подолгу простаивает на берегу широкой, как море, реки Джейхун, где грузятся суда. «Что это за люди, хорезмийцы? Благо родней ли они своего века? Или век благородней их?»
«Из Хорезма, заметил Ибн Сина, везут соболей, горностаев, бобров, воск, стрелы — все это берут у тюрков-огузов, приходящих с севера. От старого тюркского народа булгар берут белую кору тополя, мед, соколов, мечи, кольчуги, рабов-славян, баранов и коров. Сами же хорезмийцы производят виноград, печенье, кунжут, полосатые одежды, ковры, одеяла, прекрасную парчу, луки, И строят суда, Дирхемы у них обрезанные, не круглые, как в Бухаре, — свинцовые и медные. Бухарские гитрифи красивее.»
Едят хорезмийцы ячмень и пшеницу. На базаре можно купить финики из Кермана, сахар из Йемена в плетеных корзиночках, залитых гипсом. Появились недавно лимоны и апельсины — пища царей. В ланке книготорговца висят карты, нарисованные на египетских тканях. Много алых армянских ковров. И продается прекрасная китайская бумага с красным ободком, которой Хусайн особенно рад. Носят хорезмийцы высокие шапки. Есть у них даже янтарь с какого-то далекого северного моря.
Страшное в Хорезме — это невольничьи рынки. Рабов гонят к центру города от всех четырех ворот.
В эти часы Хусайн ничего не может делать. Сидит, как изваяние, над открытыми книгами.
Покупка раба — целое искусство. Отцы обучают ему сыновей с юных лет. «Прежде чем купить раба, говорит отец, уложи его на землю, пощупай бока, хорошенько осмотри, не болит ли у него где… Покупай только то, что будет размножаться. Знай, у тюрка есть характер, свежесть и чистота. По ловкости — это лучшие рабы. Аланы — самые храбрые, румийцы — вежливы, хозяйственны, удачливы, обладают хорошим характером, сдержаны на язык. Армяне враждебны к хозяину, склонны к побегу… Когда тебя одолевает любовная страсть, предложенных рабов не смотри, ибо под влиянием страсти безобразное покажется тебе красивым. Сначала утоли страсть. Потом уже занимайся покупкой».
А вот поучения со стороны продавца: «1/4 дирхема на хну делает рабыню дороже на 100 дирхемов. Рабов перед продажей обучи поведению: девушки пусть будут кокетливы и стоики с молодыми покупателями и податливы со стариками. Юноши — загадочны, молчаливы перед молодыми мужчинами, томно опускают глаза перед старыми. Кудри юноше-рабу не срезай. Не забудь и покупателю рассказать о достоинствах товара. Объясни, что девушки из Мекки так дороги потому, что склонны к искусству пения и необычайно кокетливы. За некоторых из них можно даже получить 13 тысяч дирхемов, если они певицы. Еще дороже девушки из Медины, потому что отличаются нежностью. Дороже их вавилонянки, ценящиеся умом. Берберийки всех дороже, потому что хорошо рожают. Негритянки же (не забудь им в день продажи приколоть в волосы или вложить в губы белую розу), и падая с неба, будут отбивать ритм. Но самые дорогие, конечно, — белые рабы. Смотри, не продешеви! Недаром матерями многих халифов были греческие рабыни… И учти: для мусульманина сойтись с рабыней не грех, для христианина — грех. Они стыдятся этого. Поэтому пусть девушка-рабыня ведет себя с покупателем-христианином как сестра, а с покупателем-мусульманином как наложница»[68].
Когда Синедрион (высший религиозный иудейский суд) приговорил Христа к смерти, Понтий Пилат, римский наместник Иудеи, приказал солдатам сильно избить его и потом избитого привел в Синедрион.
— Се человек, — сказал он, думая, что вид Иисуса вызовет у них жалость, и они отменят приговор.
Нет, человек, если он раб, не вызывает жалости. Пришел к апостолу Павлу беглый раб, Павел… вернул его хозяину. Через 300 лет Блаженный Августин поспешил исправить эту оплошность, заявив, что христианство не пассивно к рабству, посчитает его наказанием за грехи. Однажды к Мухаммаду пришёл вождь одного племени и сказал: «Этот раб — мой сын. Возьми золото за него», Мухаммад ответил: «Без всякого золота, как захочет раб, пусть так в будет». Раб попросил у отца разрешение остаться…
О случае с Мухаммадом и рабом рассказал Муса-ходже крестьянин Али, Слепой старик был потрясен этим не меньше, чем происшедшим накануне в суде. Не всякий богослов прозрел бы то, что прозрел Али: хиджру пророка Мухаммада.
Муса-ходжа зажег свечку и задумался о пророке.
В прошлом бедный сирота, Мухаммад ходил с караваном по всей Аравии, как погонщик, прославился честностью, его даже стали называть ал-Амина («Достойный доверия»), и богатая вдова Хадиджа однажды доверила ему все свои караваны. Потом они поженились: 49-летняя. Хадиджа и 29-летний Мухаммад.
Когда мекканцы переругались, решая вопрос — какому племени внести во внутрь только что отремонтированного храма Каабы Черный камень, Мухаммад сказал: «Положите Камень на полотно, все вместе возьмитесь за него и войдите в храм».
Вот так он и жил до сорока лет — честный и скромный, и все думали, он счастлив, но все больше и больше росла в нем тоска. И он подолгу бродил по пустыне, сидел в пещере Хир, на горе Ноор, мучимый мыслями о несовершенстве мира.
«Поистине, прав Мухаммад, — думал Муса-ходжа: — „От гибели общину спасет только то, что ее породило — откровение искренности“. Разве не болен сегодня ислам? Заперся в доме и никого не пускает.
Отец рассказывал, — вспоминает слепой старик, — как сбросили в Бухаре с минарета Калян двух английских офицеров[69]. За то, что они под видом дервишей пробрались в Бухару. А после них приходил ученый-венгр[70], — тоже под видом дервиша, написавший потом книгу о Средней Азии и Бухаре, — хоть так приоткрыл окошечко в незнакомый европейцам дом, запертый на протяжении семисот лет!
Конечно, после того, как завоюешь пол мира, хочется посидеть одному в пещере Хир и все обдумать. Но если долго там сидеть, можно остаться в хвосте каравана: человечество никого не ждет. Хочешь, иди первым, хочешь, плетясь в хвосте я подбирай оброненное за ненадобностью.
„От гибели общину спасет только то, что ее породило…“ Это, когда все берутся за концы полотна и вместе вносят сокровища в общий дом».
Сколько мыслей поднял в душе каждого Али вчерашним своим поступком! Муса-ходжа понял: отныне он никогда не оставит этого парня. До конца пройдет с ним его путь.
Эмир Алим-хан тоже не спал эту ночь, думая о словах Али о хиджре. «Что это было? Откровение? Но ведь Али — неграмотный, из бедных. Откуда такая тонкость души? Но ведь и Мухаммад из бедных!»
В окно ударили камни, закричали проклятья детские голоса, Эмир поморщился. Позвонил в колокольчик. Вошел дежурный по питью. Нет. Вошел дежурный по Туалету. Да нет… Вошел дежурный по свечам.
— А… Все равно. Пусть отнесут им халвы и все такое…
Взял свечку, накинул халат. Мальчики уже убежали. Тихо, Крупные звезды, словно глаза тех, кто жил в Арке до Алим-хана, смотрят на него. Вот глаза Буниата. Говорят, Арк все время рушился, пока тюркют Буниат строил его, и мудрецы посоветовали поставить в основание Арка столбы так, как расположены звезды Большой медведицы…
А вон глаза Исмаила Самани… Вон — хана Шейбани.
А это смотрит Мангыт. «Основатель моей династии», — думает Алим-хан.
Одна княгиня спросила эмира в Петербурге:
— А правда ли, что Чингиз-хан, когда отправлял своего сына Джучи на Русь, дал ему четыре тысячи воинов из племени мангыт, и вы — мангыт?
Ничего Алим-хан не ответил ей. Когда меркиты взяли в плен Бортэ, жену Чингиз-хана, и продали ее Ок-хану, а тот, дружа с Чингиз-ханом, не тронул ее и попросил забрать, Саба, посланник Чингиз-хана, поехал за ней и принял у нее роды в пути, да не нашел во что бы завернуть маленького Джучи — первого сына Чингиз-хана, положил его в тесто, так и вез.
Да, мангыты и чжурчжени пришли с Джучи из Монголии и долго жили на Волге, где и отюречились, поднялись до Казани. По русские князья в XV веке стали бить их. Тогда Шейбани-хан собрал всех и привел в Среднюю Азию. Узбеки — чистый тюркский народ Золотой Орды, не смешанный ни с чагатаями, ни с монголами, разгромили государство потомков Тимура, а три узбекских племени: шейбаниты, казахи и мангыты захватили власть.
Те, что пришли с Шейбани: чжурчжени, камские булгары (древнетюркские племена), хазары (булгары+тюркюты), половцы (потомки кипчаков, кипчаки потомки голубоглазых белокурых динлинов — аборигенов Алтая), аланы (родственные скифам), кипчаки, казахи (их ядро — кипчаки)… смешались со среднеазиатскими барласами и чагатаями (отюреченные монголы), тюрками: карлукам, потомками тюргешей, караханидов, уйгур, а также с монгольским племенем кара-китаев, с потомками арабов, таджиками, персами, туркменами и киргизами[71].
Вот каким был парод, населявший Бухарский эмират.
Когда Алим-хан пришел в северо-восточный угол Арка, в самый дальний его конец, где располагалось кладбище, то увидел, что дядя его, Сиддик-хан, тоже не спит, стоит во дворе и смотрит на звезды, лицо его было в слезах…
Оба смутились, увидев друг друга. Сиддик-хан, низко поклонившись, пригласил эмира в дом.
Во время болезни эмира Музаффара Сиддик-хан, правитель Чарджоу, приехал в Арк (без разрешения) навестить отца. А отец, оказывается, несколько дней как умер, придворные держали это в секрете. Тайно привезли из Кермине брата Сиддик-хана — Абдулахада — отца Алим-хана, и объявили его государем, а Сиддик-хана арестовали, и вот с 1885 года, уже 35 лет, он живет в этом доме один, в ему никуда не разрешается выходить.
Алим-хан, когда стал эмиром в 1910 году, не тронул Сиддик-хана, хотя придворные и советовали его убить в целях безопасности государства, — разрешил приносить ему книги, какие он просил, и бумагу без ограничения. Просматривая списки заказываемых Сиддик-ханом книг, заметил в них книги Ибн Сины. Значит, дядя выучил арабский.
Первый раз Алим-хан пришел к Сиддик-хану, когда вернулся из Петербурга, в 1910 году, по окончании Кадетского корпуса. Алим-хану не терпелось показать орден Белого Орла, каким наградил его Николай н.
Сегодня Алим-хан пришел к Сиддик-хану во второй раз через десять лет. Потрясенный приходом эмира, Сиддик-хан ничем не выдал себя, только дернулась щека, будто ударили по ней невидимые барабанные палочки. «Какое самообладание! — отметил про себя эмир. — Благородство? Или сатанинская скрытность? Может, и вправду, лучше его убить?»
— Разреши, — начал говорить Сиддик-хан, — я буду учить мальчиков. Тогда они перестанут бить твои стекла. Эмир удивился: «Сын хана, а говорит такую глупость!» После смерти эмира Музаффара арестовали и братьев Сиддик-хана: одного в Гузаре, другого в Бане у не. Сыновей их, рождавшихся после, эмир приказал забирать в Арк и держать взаперти. Эти байсунские и гузарские царевичи жили без слуг, сами таскали воду, кололи дрова, готовили обед — чтоб меньше было времени думать о захвате престола. Конечно, можно было бы сбросить их в потайной колодец, что в северо-восточном углу Арка, сбросить туда и Сиддик-хана и жить спокойно. Но… пусть бьют стекла, пусть проклинают, пусть плачут, глядя на звезды. Хоть какая-то искренность в мертвом логове!
— Что это? — спросил Алим-хан, увидев завиток на стене, сделанный красной краской:

— Моя жизнь. Я уже вот здесь. — Сиддик-хан показал на выгиб у конца линии.
Помолчали.
— А что ты сделал с аистами? — вдруг спросил Сиддик-хан эмира. — Не стоит больше нигде это белое счастье на одной ноге над Бухарой. Я все глаза проглядел.
— А на меня что так смотришь? — рассмеялся Алим-хан. — Я же не аист. Прострелишь! Ну взгляд…
— Я-то в лицо тебе смотрю, а бог — в сердце…
Алим-хан ушел.
На обратном пути заглянул и окно другого затворнического дома, где жил его четырнадцатилетний сын, наследник.
Мальчик спал, прижавшись к старину слуге. По закону эмир и наследник не должны были видеться. И не виделись, если не считать праздника обрезания, когда Алим-хан пришел и стер пальцами, унизанными перстнями, слезы, градом катившиеся по лицу испуганного внезапной болью пятилетнего ребенка. Пройдя двор, Алим-хан взял у шедшего навстречу русского солдата кувшин и спустился с ним в комнату воды. Пока набирал воду из цистерны, колол лед, вяло кидал его в кувшин. — все — смотрел и смотрел на Ала, сидевшего на соломе в углу, «Как бы ни вел себя на суде этот парень. — думал эмир, — дело сделано. Шпур, сгорев, взорвет бомбу, вложенную в сознание народа, и народ покорится, Каким бы могучим ни было половодье, берега все равно сожмут его в узкую реку. Половодье — это неестественное состояние. Естественное — подчинение одного другому. Вода подчиняется берегам. Народ — эмиру… Придет время, когда никто больше не будет стоять между мной о моим народом. И мне достаточно будет сказать слово, в народ пойдет за мной, восседающем на коне, и будет все сметать на своем пути: всех этих русских консулов, афганских офицеров, английских советников. И снова я останусь один. Я и мой народ. Как в старые добрые времена…»
— Итак, — начал говорить Бурханиддин-махдум, поднимаясь над народом на площади Регистан, — достопочтенный Абу АЛИ Хусайн Ибн Сина обвиняется нами в преступлении против бога.
Народ замер. Такого услышать он не ожидал. Ведь судят-то не Ибн Сину, а Али… Вот, значит, куда все шло! Ай да Бурханиддин… Как всех обкрутил. Как тигр, на лапах прошел. Такая свобода была на суде. Задавай какие хочешь вопросы… В так всех незаметно втянул в судьбу Ибн Сины, — о нем только и разговоры вел! — что про Али и забыли. И потому теперь так нагло, в открытую в заявил: «Ибн Сина нами обвиняется»…
— Ибн Сина нами обвиняется, — продолжает судья, — в еретизме, ибо утверждает, что мир не создан богом, а существует вечно и развивается по своим, не зависящим от бога законам.
Это потрясло народ. Ибн Сину знали, как дерево, растущее у родного дома, тропинку, ведущую в поле, родник, какой у каждого есть в тайном уголке природы, благословенны семьи, ее покой, ее духовная сила и красота. Патрон Бухары — вот кто такой был всегда для народа Ибн Сина. И оказывается, никто не знал его, судя по тому, в чем обвиняет великого бухарца Бурханиддин, как порою не знает человек, живущий у истоков реки, мощи ее низовья.
Ибн Сина-философ всегда был для народа солнцем, которое греет землю, растит хлеб. Но из чего состоит это солнце, что у него там внутри — народ не знал, да и не хотел знать. Попробуй, приблизься — сгоришь. К народу истекает лишь красота философии — ее нравственность. Зачем ему сухая ее логическая суть? Ибн Сина всегда был для народа символом высокой нравственности ума и души. Почти тысячелетний его авторитет и чисто человеческое обаяние стояли над народом сочувствием небес… И вдруг Бурханиддин так резко, так жестоко сорвал туман, за которым оказалось совсем не солнце, сотворенное богом, а холодный, насмешливый дьявольский глаз.
Народ мог выступать против эмира Алим-хана, но не против бога.
— Чтобы иметь право судить Ибн Сину как философа, — продолжает Бурханиддин-махдум, — я должен сам быть философом. И не просто философом — кто сейчас не философ! — а как он — совершенным Умом. У меня же, если честно говорить, в голове полный сумбур. Но есть человек — может быть, даже больший Ум, чем Ибн Сина, который родился всего через каких-то 22 года после его смерти и знал все его труды так, что ночью разбуди, любое место из любой книги Ибн Сины мог сказать наизусть. Знал он в совершенстве греческую и арабскую философию. Это ученик несравненного Джувайни, современника Ибн Сины, того самого, что, выстояв в борьбе с мутазилитами, взял от них логику и соединил ее с богословием. Но, кроме божественного ума, святой ученик Джувайни обладал еще и высоким состоянием духа, что ценится больше самой Истины. Недаром ученик Джувайни носит самый почетный исламский титул В Доказательство ислама (Худджат ал-ислам). И если бы не было пророка Мухаммада, он был бы им. Ученика зовут Газзали.
Народ рухнул на колени.
— Газзали, — начал говорить Бурханиддин после благоговейного молчания, — обвиняет Ибн Сину как философ и как богослов в том, что Ибн Сина смешал философию с религией, изложил философию религиозными, — да еще христианскими! — терминами.
Почему Ибн Сина все так перепутал? Потому, что путанно, плохо усвоил труды Аристотеля, переведённые евреями и еретиками-несторианами, изгнанными из Византии. они так напереводили, что труд неоплатоника Плотина «Эннеады» оказался трудом… Аристотеля — и стал лаже называться «Теологией». А в этих «Эннеадах» и была как раз применена к философии христианская терминология.
У Кинди, основателя дома мусульманской философии, и у Фараби, ее главного архитектора[72], не хватило проницательности почувствовать несоответствие этой «теологии» трудам Аристотеля. Ибн Сина же, тоже ни в чем не разобравшись, впустил в дом мусульманской философии все науки, создал эдакое половодье философии[73] и все бы так в двигалось дальше, если бы не пришел Газзали.
Какими мы располагаем доказательствами? Вот книга Фараби, — Бурханиддин поднял рукопись, — называется «О соединение взглядов двух философов: божественного Платона и Аристотеля». Здесь Фараби так и говорит: «труд Аристотеля… „Теология“».
— Фараби дал нам чистое, освобожденное от каких- либо примесей изложение философии Аристотеля, — говорит Ибн Сина в Гургандже (Хорезме) новым своим друзьям — В трудах, содержащих перечень аристотелевских работ, он нигде не приписывает Аристотелю «Теологии». Даже не упоминает о ней. В книге же «О соединении взглядов двух философов: божественного Платона в Аристотеля» — да! — говорит, что «Теология» принадлежит… Аристотелю. Но сделал он это потому, что ему надо было ввести в мусульманскую философию самое ценное, что подарили человечеству греки, — мысль о вечности материи и мира, о том, что мир не создан богом, существует вечно и развивается по своим, не зависящим от бога законам. А как это изложить, если но главе государства стоит религиозная власть? Разве что, прибегнув к религиозной терминологии! — вот в чем состояла хитрость[74].
Религией, изложил философию религиозными, — да еще христианскими! — терминами.
Почему Ибн Сина все так перепутал? Потому, что путанно, плохо усвоил труды Аристотеля, переведённые евреями и еретиками-несторианами, изгнанными из Византии. Они так напереводили, что труд неоплатоника Плотина «Эннеады» оказался трудом… Аристотеля — и стал лаже называться «Теологией». А в этих «Эннеадах» и была как раз применена к философии христианская терминология.
У Кинди, основателя дома мусульманской философии, и у Фараби, ее главного архитектора[77], не хватило проницательности почувствовать несоответствие этой «теологии» трудам Аристотеля. Ибн Сина же, тоже ни в чем не разобравшись, впустил в дом мусульманской философии все науки, создал эдакое половодье философии[78] и все бы так в двигалось дальше, если бы не пришел Газзали.
Какими мы располагаем доказательствами? Вот книга Фараби, — Бурханиддин поднял рукопись, — называется «О соединение взглядов двух философов: божественного Платона и Аристотеля». Здесь Фараби так и говорит: «труд Аристотеля… „Теология“.
— Фараби дал нам чистое, освобожденное от каких-либо примесей изложение философии Аристотеля, — говорит Ибн Сина в Гургандже (Хорезме) новым своим друзьям.
— В трудах, содержащих перечень аристотелевских работ, он нигде не приписывает Аристотелю „Теологии“. Даже не упоминает о ней. В книге же „О соединении взглядов двух философов: божественного Платона в Аристотеля“ — да! — говорит, что „Теология“ принадлежит… Аристотелю. Но сделал он это потому, что ему надо было ввести в мусульманскую философию самое ценное, что подарили человечеству греки, — мысль о вечности материи и мира, о том, что мир не создан богом, существует вечно и развивается по своим, не зависящим от бога законам. А как это изложить, если во главе государства стоит религиозная власть? Разве что, прибегнув к религиозной терминологии — вот в чем состояла хитрость[79].
Среди ученых — новых друзей Ибн Сины — оживление.
— Ну и молодец Фараби!
— Оказывается, философ — это не только мыслитель, это еще и дипломат!
— Газзали разъединил философию и религию, — продолжает говорить народу на площади Регистан Бурханиддин-махдум, — Газзали дал им единственно правильное соотношение: философия должна подчиняться религии, как подчиняется царю войско, ибо философия призвана охранять религию — царицу наших мыслей и чувств, а не сворить с ней.
— Вопрос соотношения философии и религии, — говорит Ибн Сина в Гургандже своим друзьям, — был решен Фараби в двух планах: в совершенном государстве, где правит народом Царь-Мудрец, религия должна подчиняться философии целиком и нести на себе только воспитательную функцию, полностью контролируемую государством. В несовершенном же государстве, в котором мы с вами живем, философы должны создавать видимость согласия философии и религии, что и начал делать Фараби, а мы продолжаем. Для этого иногда приходится темно излагать. А некоторые свои мысли и вовсе приписывать Аристотелю. Но все-таки для того, чтобы и своих не запутать, я ввел в философию учение о… двойственности истины: мол, одно и то же явление надо раскрывать неоднозначно: с точки зрения философии и с точки зрения религии. И только тот, кто понимает это, может пройти по осторожным этим оговоркам в царство нашей истины.
А тот, кто не понимает, варит суп из петуха, сунутого со всеми перьями в котел.
— Газзали, — продолжает Бурханиддин-махдум, — резко выступил против учения Фараби и Ибн Сины о двойственности истины. Истина может быть только одна!
— А не убил ли Газзали философию, отделив ее от и религии, как убивает порой безрассудный отец сына, жестоко выгнав его из дома? — спросили из толпы студенты медресе, будущие муллы.
— Нет, — ответил Бурханиддин. — Не убил. А даже наоборот, способствовал дальнейшему развитию философия и других наук, потому что, убрав учение о двойственности истины, религии отдал религию, философии — философию. Без всякой путаницы ученые могли теперь заниматься только науками, А Коран, как вы знаете, не препятствует изучению наук: 250 его аятов носят законотворческий характер, 750 — призывают изучать природу.
И не Мухаммад ли сказал: „Стремление к знаниям и наукам — долг каждого мусульманина“. Не Мухаммад ли назвал ученых своими истинными наследниками? Не он ли в третьей суре Корана восхищено провозгласил: „Поистине, в создании небес и земли, и в смене ночи и дня — знамения для обладающего умом, — тем, которые размышляют о сотворении небес и земли. Господи наш!
Не создал ты этого попусту“.
— Воистину тай — поддержала толпа.
‘ — Не он ли сказал в 67-й суре Корана: „Ты не увидишь в творении милосердного никакой несоразмерности., Обрати свой взор: увидишь ли ты расстройство? Потом обрати свой взор дважды: вернется к тебе взор с унижением в утомленный“. — воистину так, — как море, вздохнула толпа.
— Почему Мухаммад беспрестанно призывал нас размышлять над природой? Потому что: „Аллах ничего не изменит в людях, пока они сами не изменят свой внутренний мир“.
— Воистину так, — сказала толпа.
— И еще Мухаммад сказал: „Аллах сотворил людей во мраке, а затем возлил на них частицу своего света“.
Вот в этом то свете и ищите истину, а не в мутном омуте двойственной истины.
Остановимся, читатель.
Рассудим Газзали и Ибн Сину — этих двух гениев.
То, что сделал Газзали в XI веке на Востоке, в XIII в Европе сделал Фома Аквинский, сын графа, из Ландольфа, родственник царской семьи Гогенштауфенов, „Ангельский доктор“, окончивший два университета: Парижский и Кельнский, лучший ученик Альберта Великого фон Больштедта, Когда католическая Европа встала перед необходимостью открыть дверь Аристотелю — не впустить его она уже не могла, как не могла остановить человеческую мысль, — на помощь ей пришел Фома Аквинский. Он очистил Аристотеля от материализма, „христианизировал“ его и такого, выхолощенного, ввел в католицизм. На Востоке первыми открыли Аристотеля… философы, а не богословы, и именно его материализм они вознесли на такую высоту, что об очищении Аристотеля и введении его в ислам нельзя было уже и думать. Единственное, что оставалось, это отделить философию от религиозной ее оболочки, что и сделал Газзали. Кстати, он сказал: „Из числа философствующих мусульман ни один не постиг аристотелевской пауки так глубоко, как эти два мужа — Фараби в Ибн Сина“. Но чтобы победить врага, Газзали должен был знать его оружие. И потому сам так изучил Аристотеля, что ученик Газзали — Ибн аль-Араби, смеясь, сказал: „Учитель вошел в желудок философии, а затем, когда захотел выйти оттуда, уже не смог этого сделать“ — то есть сам стал замечательным философом против своей воли.
Газзали напишет впоследствии прекрасные учебники по логике, метафизике с позиций как раз аристотелизма, и Европа в латинском переводе будет с восхищением их читать, думая, что автор их — философ. (Переводчики опускали предисловие, где говорилось, что Газзали-богослов.)
Фома Аквинский, громя Аристотеля, цитировал… Газзали! Оба они объявили философию служанкой богословия. У Аристотеля четыре этапа познания располагались так: опыт, искусство, мудрость, знание. Фома поменял местами мудрость и знание, причем мудрость назвал иррациональным знанием, то есть религией, — и получилось: опыт, искусство, знание (философия), мудрость (религия), то есть философия — служанка богословия.
Католическая церковь объявила Фому и Газзали святыми. В самой большой церкви Флоренции находится портрет Газзали.
Да, только один Газзали из всех понял истинный смысл учения Фараби и Ибн Сины о двойственности истины, вскрыл противоречие, невольно возникшее в философии Ибн Сины —: соединение естественно-научных принципов и религии, и в этом, несомненно, была огромная заслуга Газзали с исторической точки зрения.
Но не заблуждение Ибн Сины вскрыл Газзали, а его маскировку. Когда в доме было темно, один пришел и зажег свечку. Другой же с рассветом ее погасил… В свете учения Ибн Сины о двойственности истины наука в лоне религии успела встать на ноги и окрепнуть.
— У философии две двери, — продолжает Бурханиддин-махдум обосновывать перед бухарцами обвинение против Ибн Сины. — Одна ведет в теоретические науки» другая — в практические. Ключ для обеих дверей одна и логика — порождение козней Сатаны. Так великий богослов Ибн Таймия сказал: нужна она лишь для того чтобы уничтожить ислам. «Тот, кто занимается логикой, привлекает ересь», кто не знает этих слов Ибн Таймии? Или слова его современника Субки: «Логика чужда исламу, ее надо судить и запретить». Ибн Сина называет логикой науку о достижении истинного выводного знания, когда непознанное познается через познанное. Газзали очень ценил это его определение, досконально изучил логику, чтобы бить врага его же оружием. Проявил необычайное мужество, ибо залезть в логику Ибн Сины все равно, что залезть в пасть дьявола!
Вот, например, одна из основных проблем: соотношение общего и единичного, бога и человека.
— Общему понятию, которое существует только в разуме человека, — говорит Ибн Сина гурганджским ученым, — в действительности НЕ соответствует никакое единичное.
Его внимательно слушают столетний христианин Хаммар — «Сын Кабатчика», Байхаки называет его третьим после Гиппократа и Галена во врачебном искусстве. Рядом Ибн Ирак — племянник хорезм-шаха (убитого отцом сидящего сейчас на троне 22-летнего эмира Мамуна) — второй Птолемей, «воспитатель и учитель Беруни». Тут и Беруни — царь математики и астрономии. И его друг христианин Масихи — «наследник аристотелевской мудрости». Все они, будучи на службе у эмира, «свободны от житейских забот» и составляют прекрасную духовную общину «Уммат ал-илм», собранную гениальным везирем Сухайли.
— Я плохо, наверное, расслышал тебя, — говорит столетний Хаммар. — Ты сказал: «Общему понятию НЕ соответствует в действительности никакое единичное?!»
— Да.
— А знаешь, что делает в таком случае это твое маленькое «НЕ»?
— … убивает бога, — кричит на площади Регистан Бурханиддин-махдум. И я вам докажу это. Бог — общее. Так?
— Так, — отвечают сразу несколько голосов мулл-студентов — первых бунтовщиков в городе. Когда спор касается бога, молчат все, кроме этих студентов.
Единичное — человек, — продолжает Бурханиддин. — Так?
— Так.
— Раз общему в действительности НЕ соответствует никакое единичное, то получается… Ну, — обращается он к пароду, — подумайте сами… что богу не соответствует человек! Так?
— Так… — растерянно произносят даже студенты-бунтари. Такого вывода они не ожидали.
— Значит, и сотворил человека не бог. И раз общее содержится только в разуме человека, то бог всего лишь…
— … чисто логическая абстракция?! — удивляется Ибн Ирак, учитель Беруни, с ужасом рассматривая пришельца на Бухары, взбаламутившего гурганджских ученых.
— А коли человека породила материя, — вступает в разговор Беруни, — и есть только материя…
— … значит, нет никаких ангелов! — кричит в ужасе Хаммар.
— То есть нет личного бессмертия человека?! — восклицает везирь Сухайли.
— Нет, — спокойно отвечает Ибн Сина.
— Вот какое чудовище — этот Абу Али Хусайн ибн Сина, — подводит итог Бурханиддин-махдум.
Епископ Парижа Гийом Овернский объявил в XIII веке это учение Ибн Сины безбожным, а тех, кто распространял его, отправлял на костер инквизиции.
Логика… На разных концах планеты у разных народов она рождалась, как новый юный бог. Зевс знал: его смерть в сыне, которого родит ему богиня Мудрости Метида. И она родила. Им оказался Логос (Логика). В Китае, за сто лет до Аристотеля, логикой занимался Мо-цзы — V век до н. э. В Индии — Акшапад — II век до н. э.
Ибн Сина начал знакомиться с логикой в 14 лет. С Натили «я изучал… простые положения логики. Затем начал изучать ее самостоятельно… Я не спал целиком ни одной ночи… и днем не занимался ничем иным, кроме науки…»
Ибн Сина не ограничил предмет логики силлогистикой. Искал объяснение природы понятия — общего умопостигаемого признака многих предметов и явлений, сущности их — то, над чем ломал голову, сутки простаивая в задумчивости, Сократ.
«Общему не соответствует в действительности никакое единичное».
Общее, тождественное единичным предметам одной группы, это универсалия[80]. Проблема универсалий была одна из основных проблем средневековой философии. На поле универсалий разыгрывались главные философские бои, например, универсалия группы «ЗЕРНО». Зерно ячменя, ржи, пшеницы, риса, проса, овса и так далее… Каков общий их признак? Всхожесть. «Родиться, умерев», — как любит говорить крестьянин АЛИ. Где эта «всхожесть» находится? Одни говорят: «Сначала в уме бога, то есть — до вещи, потом в самой вещи и потом после вещи — в уме человека, становясь понятием».
«Общему понятию НЕ соответствует в действительности никакое единичное». Есть ли такой единичный Предмет «всхожесть»? Нет..
Платон говорит: Универсалии («идеи») находятся только в уме бога. Это — самодовлеющие сущности, В реальности, в вещах, их нет.
Аристотель: Универсалии существуют в уме бога как высшая, первичная реальность. Потом в самих вещах как вторичная, низшая, реальность. И в уме человека, умеющего путем разума выделять, абстрагировать общий их признак, тогда они становятся понятиями.
Ибн Сина: Универсалии существуют только в вещах и затем, как понятия, в уме человека, НО НИ В ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ВЕЩИ ОНИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ. «Общее понятие, поскольку оно является общим, не существует иначе, как в разуме. Но сущность его (общие признаки предметов) существует как… в разуме, так и вне разума, и вещах».
Сколько путаницы внесли в трактовку философского наследия Ибн Сины девять веков длящиеся вокруг него бои! Так запутали, что даже в историю философии (!) он несправедливо попал с аристотелевским, а не своим учением об универсалиях, — Универсальное как умопостигаемое, то есть ПОНЯТИЕ, — говорит Ибн Сина гурганджским ученым, — теряет свою абсолютную универсальность, становится выражением как универсальной, так и индивидуальной сути.
Понятия бывают шести видов. Первое — когда ни один предмет в действительности не соответствует понятию. И даже возникновение его исключается. Можете привести пример?
— Ну… наверное, это какая-нибудь тайна, — смеется 22-летний эмир Мамуп II.
— Или ловушка, — ворчит Хаммар.
— Почему же? — улыбается Масихи. — Ибн Сина всего лишь излагает аристотелевские виды понятий. — может, золотая река? — неуверенно произносят везирь.
— Достаточно спуститься в мою казну, чтобы увидеть ее! — смеется эмир.
— Сотоварищ бога[81], — говорит Беруни.
— Правильно, о великий астровом! — восклицает Ибн Сина. — А вот теперь и ваша «золотая река», — обращается он к везнрю, — это второй вид общего понятия, когда в действительности ему не соответствует ни одна единичная вещь, но возникновение ее не исключается. Третий вид, когда в действительности понятию соответствует только одно единичное индивидуальное.
— Ты же говорил, что никакому общему в действительности не соответствует никакое индивидуальное?! — вскричали все разом, — без этого вида понятия и часа не проживет ни один теолог! — улыбается Ибн Сина. — И потому это индивидуальное единичное…
— Бог! — догадывается Хаммар.
— Правильно. А отражает ли это понятие что-либо из реально существующих предметов?
Все молчат.
— Четвертый вид общих понятий…
— … когда что-нибудь в действительности все же ему соответствует, но это такое единичное, которое в реальном мире само бог — то есть равно этому понятию, да? — догадывается везирь.
— Да. Но возникновение других таких единичных не исключается. Солнце, например, — бог реального мира.
— Ну и логика! — восхищенно произносит кто-то. — Итак, нам осталось два вида общих понятий, — продолжает Ибн Сина. — Одному соответствуют в действительности единичные предметы, поддающиеся и счету: растения, деревья, книги, монеты[82]… Другому не поддающиеся счету: звезды, пылинки, песчинки[83]… Как видите, я не нарушил своего главного тезиса: «Общему понятию НЕ соответствует в действительности, ни одно единичное».
— Что, например, такое — Ибн Сина? — спрашивает Я у народа Бурханиддин-махдум. — Я вам отвечу по логике Ибн Сины. Рождается ребенок, слышит повсюду, Ибн Сина — великий ученый! Ибн Сина — великой философ!
Ибн Сина — непревзойдённый врач! Ибн Сипа сама честность! Ибн Сина — само благородство! Он никогда не видел Ибн Сины, ни одной книжки его не читал. Но сознание его приняло все эти ложные суждения и составило по ним ложное понятие: прекрасный, великий, честный, чистый Ибн Сина. Вот это и есть то, о чем Ибн Сина сказал: «Общему понятию НЕ соответствует в действительности единичное».
Оставим Бурханиддина. Обратимся к тому, кто любил Ибн Сина, посвятил ему жизнь.
О том, как славился Ибн Сина-логик, есть удивительный рассказ: «Еще в Гургане… — пишет Джузджани, шейх[84] написал „Малое сокращение по логике“. Один экземпляр этой книги оказался в Ширазе. Тамошние ученые прочитали ее, у них возник ряд недоумений по рассматривающимся в ней проблемам. Они записали свои вопросы на одной стопе бумаги. Судья Шираза был в числе тех ученых. Он отправил стопу бумаги к Кирмани всадником, направляющимся в Исфахан, и попросил вручить шейху.
Кирмани пришёл к шейху в жаркий день, когда бледнело солнце, и подал письмо.
Шейх прочел его, вернул Кирмани, а стопу присланной с вопросами бумаги положил перед собой. Пока присутствующие разговаривали, он просматривал ее. За тем Кирмани ушёл, и шейх приказал мне нарезать из бумаги несколько стоп.
Я приготовил пять стоп по десять листов в каждой.
Мы прочли вечернюю молитву, зажгли свечи, и шейх распорядился принести вино, а сам начал писать ответы на те вопросы. И писал он до половины ночи, пока меня и брата не одолел сон. Тогда он велел нам уйти.
На рассвете кто-то постучал ко мне в дверь. Это был посланец шейха, который просил меня прийти к нему. Я пришел и застал его на молитвенном коврике. Перед ним лежало пять стоп исписанной бумаги. Он сказал: „Возьми это и отправь к Кирмани“.
Когда я принос к Кирмани исписанные стопы бумага, тот изумился… Этот случай вошел в историю».
Есть у XX века проблема: Всеобщий Универсальный язык, Ибн Сина тесно связан с ней, так как бился над проблемой выразимости понятий через какой-либо минимальный знак. Если мир развивается по одним и тем же объективным законам, значит, этими законами пронизана любая сущность, значит, можно найти знак с положительным и отрицательным значением, выражающий ее, и построить из этих двух значении язык. Тогда не случайное слово будет выражать сущность того или иного предмета, явления, а знак, понятный всем наукам. Это в есть Всеобщий Универсальный язык.
Пока такого языка у нас нет. Представьте, сидят за столом Философия, Физика, Математика, Естествознание, Искусство, История, Химия, Астрономия… смотрят друг на друга, а говорить не могут. В какой-то мере общаются через язык математики. Но она годится лишь для моментов устойчивости, постоянства, классических закономерностей и совершенно не применима в квантовой теории, в социологии, геологии, искусстве, то есть там, где есть живое неожиданное движение.
Всеобщий Универсальный язык как бы скальпирует неизвестные явления, делает их видимыми. Сегодня некоторые законы природы открываются буквально «на кончике математического пера». Так, в 1928 году Дирак дал релятивистское обобщение уравнения Шредингера, применимого только к частицам, скорость которых мала по сравнению со скоростью света. Решение этого уравнения оказалось под квадратным корнем, у которого, как известно, два знака: + и —. У физиков родилось предположение, что кроме электрона должна существовать еще одна частица, сходная по своим физическим параметрам с ним, но отличающаяся знаком заряда. Сколько раз позитрон «выходил» к ученым теми или иными своими проявлениями! Но «увидели» его лишь после математического обоснования.
Так же были «увидены» в 1974 году кварки — составные частицы сильно взаимодействующих элементарных частиц с дробным электрическим зарядом, кратным одной трети электрона. Существуют они только внутри адронов. Открытке их С. Тингом и Б. Рихтером было отмечено Нобелевской премией и означало революцию в современной физике. «Увидеть» же их опять помог универсальный язык: математический структурный анализ, — математическая модель.
Искали такой язык и древние. Пифагор пытался построить числовую модель Вселенной, но у него число было знаком статического определения вещи, не диалектического.
У китайцев есть книга «И-цзин», созданная, как предполагают, в X–VIII веках до н. э. Две противоположности — ян и инь — обозначены в ней линиями:
положительное начало _______ ян,
отрицательное ___ ___ инь.
У материи Ци шесть проявлений (вспомните, Ибн Сина говорил о шести видах понятий). Комбинации из шести посылок в двоичной системе: 26 дадут 64 гексаграммы. Вот некоторые из них в книге «И-цзин»:
 РАССВЕТ
РАССВЕТ
Малое отходит, великое приходит.
 УПАДОК
УПАДОК
Великое отходит, малое приходит.
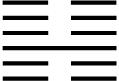 СМИРЕНИЕ
СМИРЕНИЕ
Благородный человек обладает законченностью.
 КОЛОДЕЦ
КОЛОДЕЦ
Меняются города, но не меняются колодцы.
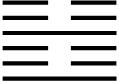 МОЛНИЯ
МОЛНИЯ
Пугает за сотни верст, но не опрокинет и ложки жертвенного вина.
 ПЕРЕРАЗВИТИЕ МАЛОГО
ПЕРЕРАЗВИТИЕ МАЛОГО
От летящей птицы остается лишь голос.
 СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
Проходя но своему двору, не замечаешь своих людей.
 УЖЕ КОНЕЦ
УЖЕ КОНЕЦ
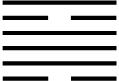 ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ
ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ
Молодой лис почти переправился через реку, но вымочил хвост.
Не так давно в Бюрокане (Армения) собрались ученые и договорились принять за знаки Универсального языка (пока еще он не Всеобщий) цифры 0 и 1. Комбинируя их по 14, можно получить около 15 тысяч понятий. Вышеприведенные китайские гексаграммы в двоичной системе бюроканского языка выглядят так: если за 0 принять ___ ___, а за 1 _______, то
РАССВЕТ — 000111,
УПАДОК — 110000,
СМИРЕНИЕ — 000100,
КОЛОДЕЦ —010110,
МОЛНИЯ — 001001,
ПЕРЕРАЗВИТИЕ МАЛОГО — 001100,
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ — 100100,
УЖЕ КОНЕЦ — 010101,
ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ — 101110.
Может, «И-цзин» — первая дошедшая до нас попытка человечества создать Всеобщий Универсальный язык? [85]
С позиций логического философского обоснования подошел к этой проблеме Ибн Сина, выдвигая свою «идею о языке». И может быть, поиском такого языка являются приведенные им в его «Книге исцеления», арифметические (!) таблицы видов суждений и их взаимоотношений. А в «Даниш-намэ» даже., геометрический (!) пример этих взаимоотношений[86], — Один час справедливости равен столетней молитве, — задумчиво проговорил Бурханиддин-махдум, оглядывая народ, до отказа заполнивший площадь Регистан. — Благородный Газзали искал «покой ума». И покой этот и был в отходе от разума к вере. Отдаваться одному только разуму — все равно, что в жару пить соленую воду…
Жизнь не может быть соразмерена понятиями. Живое, ее, вечное движение — тайна. И ближе всех к пониманию этого стоит народ, его непосредственная душа. Ибн Сина замуровал свою душу в узкий гроб логического мышления и потому чужд народу, непонятен ему. Я щадил вас, — голос Бурханиддина-махдума дрогнул. — Не зачитал ни одного кусочка из его трудов. Но чтобы вы поверили мне, насколько он разумом засушил свою душу, прочту несколько строк. Всю ночь я ломал голову, чтобы перевести их для вас с арабского. Вот, слушайте:
«Если суждения соответствуют друг другу, и ты знаешь, что А в соответствии со своей действительностью во всех случаях есть Б, то оно подтверждается без необходимого утверждения. Тогда В становится для всякого не необходимого С или вещи, подразумеваемой под С, не необходимых!. Однако А, наоборот, противоположно этому, так как для всякого, что есть А, необходимо В. Характер С или вещи, подразумеваемой под ним, отличен от характера А. Одно из них никогда не входит в другое… Такое же положение некоторых С…»
Народ возроптал.
Бурханиддин-махдум перестал читать.
— Да, — грустно произнес он, — Ибн Сина похож на мальчишку, который обогнал старика, потому что нельзя обогнать жизнь, которая старше разума.
Бурханиддин встал и закончил заседание.
Народ начал медленно расходиться, не поднимая друг на друга глаз.
Кто ты — Ибн Сина?
Непостижимый для нас могучий ангел?
Дьявол?
«Или один из духов, богом проклятых?»[87]
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Спор с Богом
Спор с Богом Я не сомневаюсь, что Ты – Всемогущий и что Ты не делаешь – всё к лучшему, но я не могу подчиниться заповеди «Возлюби Господа твоего». Нет, отец, я не могу; не в этой жизни. Иаков, герой романа Исаака Башевиса Зингера «Раб» Иаков, глубоко религиозный человек, жену
1. СТОЛКНОВЕНИЕ С БОГОМ
1. СТОЛКНОВЕНИЕ С БОГОМ Конрад из «Дзядов» А. Мицкевича, обращаясь к Богу с просьбой дать ему власть над душами, бросает фразу, которая как нельзя лучше раскрывает двойственное отношение трансценденции с человеком: логическое познание Бога и экзистенциальное
С богом [A-dieu]
С богом [A-dieu] Подчинение закону, которое заставляет Эго быть в ответе за другого, возможно, носит горькое имя любви. Любовь, в данном случае, не имеет ничего общего со словом, давно скомпрометированным нашей литературой и нашим лицемерием, скорее это — сама подлинность в
А. Дух (Чистая история духов)
А. Дух (Чистая история духов) Первое, что мы узнаём о «духе», это — что не дух велик, а «невероятно велико царство духов». Святой Макс может сразу сказать о духе только то, что существует «невероятно великое царство духов», — подобно тому как и в отношении средневековья он
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В МИРЕ ДУХОВ[278]
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В МИРЕ ДУХОВ[278] Существует старое положение диалектики, перешедшей в народное сознание: крайности сходятся. Мы поэтому вряд ли ошибемся, если станем искать самые крайние степени фантазерства, легковерия и суеверия не у того естественнонаучного
А. Дух (Чистая история духов)
А. Дух (Чистая история духов) Первое, что мы узнаем о «духе», это – что не дух велик, а «невероятно велико царство духов». Святой Макс может сразу сказать о духе только то, что существует «невероятно великое царство духов», – подобно тому как и в отношении средневековья он
Естествознание в мире духов
Естествознание в мире духов {265}Существует старое положение диалектики, перешедшей в народное сознание: крайности сходятся. Мы поэтому вряд ли ошибемся, если станем искать самые крайние степени фантазерства, легковерия и суеверия не у того естественнонаучного
ВЕДОМЫЙ БОГОМ
ВЕДОМЫЙ БОГОМ Дионис сам был богом, но воплощался в виде своего последователя. Мужчины этого типа часто чувствуют себя так, как будто их ведет нечто неизмеримо большее, чем они сами и чем люди вообще. Они воспринимают это обычно как присутствие и водительство бога. Это
Шлока (3) ИЗ ЛУЧЕЗАРНОСТИ СВЕТА — ЛУЧА ВЕЧНОЙ ТЬМЫ — УСТРЕМИЛИСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭНЕРГИИ (Дхиан-Коганы), ВНОВЬ ПРОБУЖДЕННЫЕ: ЕДИНЫЙ ИЗ ЯЙЦА, ШЕСТЬ И ПЯТЬ; ЗАТЕМ ТРИ, ОДИН, ЧЕТЫРЕ, ОДИН, ПЯТЬ — ДВАЖДЫ СЕМЬ, СУММА ВСЕГО. И ЭТИ СУТЬ ЕСТЕСТВА, ПЛАМЕНА, НАЧАЛА, СТРОИТЕЛИ, ЧИСЛА, АРУПА (не имеющие форм), Р
Шлока (3) ИЗ ЛУЧЕЗАРНОСТИ СВЕТА — ЛУЧА ВЕЧНОЙ ТЬМЫ — УСТРЕМИЛИСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭНЕРГИИ (Дхиан-Коганы), ВНОВЬ ПРОБУЖДЕННЫЕ: ЕДИНЫЙ ИЗ ЯЙЦА, ШЕСТЬ И ПЯТЬ; ЗАТЕМ ТРИ, ОДИН, ЧЕТЫРЕ, ОДИН, ПЯТЬ — ДВАЖДЫ СЕМЬ, СУММА ВСЕГО. И ЭТИ СУТЬ ЕСТЕСТВА, ПЛАМЕНА, НАЧАЛА, СТРОИТЕЛИ, ЧИСЛА, АРУПА
Шлока (5) «ТЬМА», БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ЖЕ HE-ЧИСЛО, АДИНИДАНА, СВАБХАВАТ О (X, неизвестное количество): I АДИ-САНАТ, ЧИСЛО, ИБО ОН ОДИН; II ГЛАС СЛОВА, СВАБХАВАТ, ЧИСЛА, ИБО ОН ОДИН И ДЕВЯТЬ; III "КВАДРАТ БЕЗ ФОРМЫ" (АРУПА) И ЭТИ ТРИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ВНУТРИ О (Беспредельный круг), СУТЬ СОКРОВЕННАЯ ЧЕТВЕР
Шлока (5) «ТЬМА», БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ЖЕ HE-ЧИСЛО, АДИНИДАНА, СВАБХАВАТ О (X, неизвестное количество): I АДИ-САНАТ, ЧИСЛО, ИБО ОН ОДИН; II ГЛАС СЛОВА, СВАБХАВАТ, ЧИСЛА, ИБО ОН ОДИН И ДЕВЯТЬ; III "КВАДРАТ БЕЗ ФОРМЫ" (АРУПА) И ЭТИ ТРИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ВНУТРИ О (Беспредельный круг), СУТЬ
СТРАНА ДУХОВ
СТРАНА ДУХОВ Прежде чем мы последуем за духом в его дальнейшем странствии, должна сперва быть рассмотрена та область, в которую он вступает. Это есть «мир духа». Этот мир так не похож на физический, что все то, что может быть о нем сказано, должно показаться фантастическим
ПРЕНЕБРЕГАЯ БОГОМ
ПРЕНЕБРЕГАЯ БОГОМ Царь искал Учителя, который помог бы ему попасть на Небо. Он пребывал в уверенности, что заслужил это, настолько он был самонадеян и упоен властью. Когда учителя приходили и предлагали свои услуги, он забрасывал их вопросами, наглость и нелепость которых
Сражаясь с Богом
Сражаясь с Богом — Так что же хорошего во всем этом? — спросил я. — Допустим, вы убедили меня, что вероятность это лучший способ понять Вселенную и что вероятность есть сущность Бога. Как мне это поможет? Должен ли я молиться этому вашему Богу? Должен ли я ублажать его
БЛАЖЕНСТВО СОЮЗА С БОГОМ
БЛАЖЕНСТВО СОЮЗА С БОГОМ Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдите покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. Мф. 11, 29—30 Христос, предвечное Слово, сказал: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко». С этим спорит направленный
Встречи с богом
Встречи с богом X. А. Ливрага Искусство встречи с богом Человечество никогда не возвысилось бы над материальностью окружающего его мира, если бы не одно кажущееся сверхъестественным свойство – интуитивное ощущение Бога. Именно это, а не что-либо другое окончательно
Беседа 18. ОДИН БОГ, ОДИН ПОСЛАННИК, ОДНА КНИГА – ОДНА БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ
Беседа 18. ОДИН БОГ, ОДИН ПОСЛАННИК, ОДНА КНИГА – ОДНА БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ 17 декабря 1984 годаБхагаван,В чем разница между религией и культом? Ведь христиане все время называют нас культом. Кажется, что им трудно принимать нас как религию. Какая может стоять за этим причина?Это