Глава третья. Пределы разума: ментальность
Человек менял одежды и идеи, но сам изменялся мало.
Николай Бердяев
Духовность реалиста
Исторически так сложилось, что русский человек надвое думает» (Ключевский), а со стороны это воспринимается как двоемыслие или даже «двоедушие». Возникает прекрасная возможность распотешиться над «русской идеей» и всем, с нею связанным.
И тем самым показать, что и сам двоедушен, сам исповедуешь «двойной стандарт» в оценке своего и чужого.
Пример. Евгений Барабанов порицает русских философов за «выпячивание самобытности» русской мысли, утверждая, что это опасный симптом. Мало того, что автор не понимает необходимости «перегнуть палку» в другую сторону после того, как она слишком уж вывихнута в противоположную, он и по существу как будто не очень логичен.
«Мир слов отрывается от мира вещей и провозглашается сущностным слоем реальности... где это ожидаемое, некритически приравненное к действительному, служит формой мотивации и оправдания поступков, — возвращает нас к магическому сознанию» [Барабанов 1992: 134, 151]. Точка зрения реалиста (т. е. собирательно русского философа), который рассматривает связи между идеей и вещью, здесь оценивается с позиции концептуалиста, который сам всегда интересовался отношением между вещью и словом, исходя из одному только ему известной отвлеченной идеи. В результате ставится знак равенства между словом и идеей — и вот уже возникает обвинение: идея (понятие, категория и пр.) подменяется словом. Слово-идея, вылепленная концептуалистом, и предъявляется реалисту в качестве обвинения того в магическом сознании. Проблема знания, важная для концептуалиста, заменяет проблему понимания и даже сознания, важную для реалиста (ср. еще: [Шпет 1989: 52—53]). Согласиться друг с другом им невозможно. Конфликт понятен; он даже оправдан. «Знание доказывается всеобщим Делом», — говорил Николай Федоров, а знанию предшествует по-знание, «Философия, определяя себя лишь как знание, тем самым признаёт себя праздным любопытством, из которого ничего не выходит, ни даже знания» [Федоров 1995: 79].
Совершенно прав Барабанов, упрекая «русское сознание» в возвращении к гностицизму (он вспоминает Маркиона); упрек не новый, о русском «манихействе» говорил Георгий Федотов, да и Сергея Булгакова обвиняли в том же грехе. Дуализм сознания есть внутреннее свойство русской ментальности, и верность отношениям эквиполентности составляет яркую особенность русской нравственности. Свет и тьма, добро и зло, наши и ваши и всё остальное в своих пространственных (не временных!) противоположностях суть равноценные реальности. Пантеизм признает неизбежность зла как условие бытия и жизни; только пройдя бездны зла можно стать добрым.
Русские писатели всегда так чувствовали; именно об этом, кажется, говорит Солженицын, замечая, что современные писатели утратили энергию синтаксических связей и в торопливости своей ценят лишь мысль и время, а не пространство слова. Потому что они, как и современные концептуалисты, исходят из готовой идеи (мысли), а не из слова, постоянно эти идеи воз-об-нов-ляющего.
Раздвоенность русского сознания (но только ли русского?) имеет глубокие основания, которые давным-давно обнаружил Иммануил Кант. Николай Федоров, кстати, именно за то и упрекал философа: «Но самое великое зло Канта — раздвоение разума: познающий и практический — и несоединимость вечная их» [Федоров 1995: 84]. Однако, постоянно споря с утверждениями этого немецкого философа, русские мыслители тянутся к его дуализму: разум и чувство, — но в отличие от Канта полагают, что разум и чувство взаимопроникают друг друга, они — неразрывно одно, и потому ничего трансцендентного в природе нет, постигаемы и «вещь» — чувством, и «вещь в себе» (идея) — духом. В отличие от немецкого реализма, который разъединяет, разводит вещь и идею в разломе «семантического треугольника», русские неореалисты утверждают необходимость их совмещения, связи, соединения разбегающихся от Логоса векторов идеи и мира. Еще славянофилы говорили, что «господство формализма в России» есть внедрение на русскую почву теоретического (критика Канта). Теоретическое — насильственное сочетание двух начал: идеального («богословского») и реального («философского»). В результате возникает схоластика как стремление к форме логического заключения «правильным силлогизмом» — «удел рассудочного мышления», аналитически дробящего сущность в пользу сочетания двух форм (см.: [Самарин 1996: 96]).
Разведенность полюсов, на которых обретаются идея и вещь (назовите их иначе: мысль и дело), постоянно сходится в слове, которым как материей мысли и пользуется человек. Николай Лосский говорил о парадоксальной совмещенности в русском сознании мистицизма и земной рассудительности. Всякий парадокс есть глубинная истина, и сегодня мы знаем ответ:
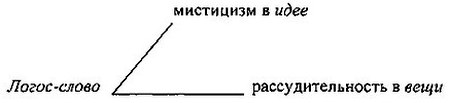
Такое расположение ипостасей Логоса выразил еще Алексей Хомяков [1912, 1: 321]: «Мир является разуму как вещество в пространстве и как сила во времени». «Сила» есть энергия идеи, вовлекающей мир в действие (время), ибо, по формуле Ключевского, «сила есть акт, а не потенция»; «вещество» есть материя вещи, создающей пространство мира. Мир сущностей и мир явления взаимопроникновенны, постигаемы один посредством другого; в признании этого — отличие от Канта, допускавшего познание мира вещей, но отрицавшего возможность познания мира идей («вещей в себе» или, точнее, «вещей для себя»).
Внешнее заимствование тех или иных философских идей не полезно для национальной философии. Каждый народ нуждается в собственной философии, потому что в процессе ее разработки идет и рост национального самосознания, идет изнутри себя самого, а не путем внешнего заимствования. Вот этой-то возможности и лишен русский народ, вынужденный в результате прилепляться к разным чужеродным идеям, модным на каждый нынешний день. Владимир Соловьев писал, что мы прошли все три отвлеченных направления мысли, питающих европейскую мудрость: и мистику, и гуманизм, и натурализм. Пора уж идти и своим путем, так что заверим всех словами русских мыслителей: «Мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полусомнением спросить у Запада, всё ли то правда, что он говорит? всё ли то прекрасно, что он делает?» [Хомяков 1912: 91]. «Тогда как, по-настоящему, надобно сказать себе: „Какое нам дело до того, что о нас думает Европа?“ — когда же мы это поймем?!» [Леонтьев 1912: 181]. — Вот и получается, что «наша деревня, как терпеливая наседка, сидит на яйцах-идеях, и она бы высидела их непременно, если бы не мешали извне» [Пришвин 1994: 95].
Всё ли понятно из трех цитат, намеренно поставленных рядом?
А в традиции русской мысли всё те же источники: во-первых, «жизнь» тела-вещи и, во-вторых, духовная сила слова.
Схема реальной действительности в русском сознании очень проста:
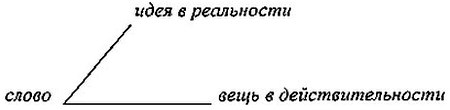
«Реальная действительность» в единстве ее составов есть гармония идеи и вещи во взаимообращенности их энергий — через Слово.
Движение от точки «действительность» в точку «реальность» проходит через слово, ибо (и это верно) именно «слово создает из действительности реальность» [Чернейко 1997: 27]. Ссылка дана на лингвистический текст, в котором собраны все философские интенции. И можно еще добавить вот что.
Коллективный разум в упор не «видит» того, что не обозначено словом, особенно если «то» невидимо, незримо, неощутимо (что такое любовь — кто скажет?), и в то же время личный разум вовсе не разум, а просто рассудок, подверженный всем колебаниям формальной логики в мысли. Обе посылки сходятся в точке вещь, из которой слово и мысль видны как сущности равноценные. Мы уже знаем, что эта позиция взгляда есть номинализм.
Реализм же исходит не из вещи, а из самого слова, в котором содержится коллективный разум (всеединство, соборность, мир... — подбирайте другие слова), основываясь на котором человек уже по собственной воле оценивает мысль-идею в ее отношении к вещи (но также и наоборот). В его проекции частное — личная мысль — проверена общим разумом в слове и верифицирована в вещи. Чувственное как ощущение вещи и рациональное как осознание в идее только совместно могут дать полную и точную информацию о мире. Одним ведь глазом плохо видно.
О «чувственности» русской ментальности столько написано... необходимо уточнить. Всё Средневековье исполнено внутренней борьбы между чувственно-вещной (еретики-язычники) и духовно-абсолютистской (христианство) формами со-знания и по-знания, это никак не могло исчезнуть в культуре, оно и не исчезло, а после XV в. обернулось «русским реализмом», совместившим то и другое в общем взгляде «от слова». Но ни чисто вещное (эмпирическое) чувство, ни чисто идеальное (мистическая интуиция) не даны в своих абсолютных проявлениях. Более того, они несводимы друг к другу по качеству, потому и вместо понятия русская мысль творит понятием образным — символом (чувство + разум в общем наведении на объект). В. В. Мильков удачно определил смысл средневековых влияний неоплатонизма («Ареопагитики») на русскую ментальность: «Оригинальная гносеология, согласно которой методы чувственного и рационального познания дополняются способами мистико-символического постижения действительности» [Мильков 2000: 212].
Реализм contra номинализм
Такова позиция реальной человеческой личности, ибо в таком случае Слово оказывается равным вещи (слово — тоже «вещь») — это линия материальных отношении по горизонтали движения; и одновременно Слово равно идее (оно тоже имеет смысл) — вот линия идеального отношения по временной вертикали. При логичности указанных связей важно, что только словом владеет человек, тогда как всякая вещь находится вне его (он и сам — «вещь»), а идея всегда над ним (у него ведь тоже имеются свои «идеи»). «Итак, Логос, или Слово, есть единственное объективное, то есть для другого существующее, начало бытия и знания» [Соловьев 1988, II: 243].
Между прочим, до XVI в. и в звучании это были два разных «слова», а именно слово, которое слышат слухом, и глагол, который изрекают в речи. Расхождение между словом и речью отражало предметно-вещную действительность, столь милую номиналисту (каковыми и были древние русичи). Совмещение этих терминов в общем слове (родово в Логосе) знаменует переход к новому измерению — это взгляд от слова, уже обобщенного именно как единственность Слова. Такова точка зрения реалиста (в философском смысле), каким и стал русский человек после духовных метаний XV—XVI вв. Теперь людей все больше объединяет «речь в широком смысле слова», заметил В. М. Бехтерев. Подробное описание этих процессов см.: [Колесов 2001].
Позиция реалиста кажется предпочтительней позиции концептуалиста, который отождествляет человека с идеей (какое самомнение!), и номиналиста, который отождествляет человека с вещью (какое убожество!).
Напомним, что в прошлом веке славянофилы ухватились за учение позднего Шеллинга, в мистических его озарениях углядев нечто, родственное своим туманным представлениям о реальности. И ранний евразиец Лев Карсавин подхватил их мнение, утверждая о Шеллинге, что его идеи — уже конечный предел развития европейского ratio, за которым оно возвращается в первозданный хаос первосмысла; Шеллинг вернул русской философии право на миф [Барабанов 1992: 149], и это верно, но не в том смысле, какой имеет в виду критик русской мысли (мифотворчество якобы застилает сознание русского человека: и опять — только русского?), а в смысле возникновения возможности приникнуть к священному источнику животворной идеи, именно — не к внешнему понятию логического мышления, но к его первообразу, к внутренней его сути — к концепту. «Мир постижим лишь мифологически», — очень точно выразил мысль реалистов Николай Бердяев. Россия развернута не к Логосу, но к Софии, утверждал Георгий Федотов, тем самым символически обозначив то, что русская мысль, устремленная к идее-Софии, на самом деле исходит из Логоса-слова. Шеллинг просто вернул неуверенной в своей правоте, сомневающейся, как обычно, в себе русской философии уверенность в том, что не ratio рассудка, иссушающе схематичного, следует признавать венцом человеческой мысли, но животворящий в слове разум-Логос.
Трагедия реалиста в другом — в том, что не всякой идее верить должно, ибо «идеи как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею, то снаряд пролетит мимо. Так, идея Прекрасной Дамы приводит Дон-Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной девке на осле... Так создался Дон-Кихот. Светило Прекрасной Дамы уже погасло, и Дон-Кихот следовал только принципу Дамы, призрачному и несуществующему, как ложное солнце, как долетающая до нас форма давно погасшего тела» [Пришвин 1994: 177].
Трагедия русского неореализма в том, что научное знание сегодня ассоциируется с номинализмом во всех его оттенках. «Номинализм, — напоминал Алексей Лосев, — явление, весьма характерное для многих современных концепций языкового знака. Можно сказать, что он вообще соответствует исконной потребности буржуазной филологии сводить все человеческое знание только на одни слова с полным отрывом от всякой внесубъективной предметности... Поэтому, додумывая всё до конца, номинализм не мог оставаться на почве субъективизма, должен был постулировать какое-то нейтральное бытие» [Лосев 1982: 185] — третий мир, вне человека. «Номиналистическое» толкование «реалистических» идеалов выворачивает последние, дискредитируя их и искажая. И такое искаженное теперь выдают за реальность!
Например, когда язык формализован, он перестает быть языком и становится кодом — отвлеченной системой знаков; тут уж совсем легко совершить подстановку и утверждать отсутствие в языке национального, подчеркивая лишь его «общечеловеческие ценности». В высшей степени это было присуще московско-тартуской семиотической школе, об основной категории которой Алексей Лосев сказал совершенно точно: «Сам-то термин знак во всяком случае имеет для многих наших современников номиналистическое происхождение» [Там же: 243].
Например, когда известный культуролог Пол Фейерабенд заявлял, что «с развитием терминов происходит отвердение теории», он также утверждал номиналистическую точку зрения, согласно которой вся теория и есть всего лишь система специальной терминологии; поскольку термины строятся не на национальных языках, мы и здесь, и снова вперяем взоры в заоблачные выси абстрактно «общечеловеческого». Образование «метаязыка науки» (сверхъязыка) — фокус, в результате которого новый термин свободно можно подводить под любой объект, как и обратно, и тогда всё сведется к «функциям» и «отношениям», при полном истреблении самих «вещей». Слово начинает играть роль понятия, замещая его.
Например, когда историк Арнольд Тойнби утверждал, что реальность общества есть отношение между личностями, а не совокупная множественность конкретных индивидов, он тоже пытался околдовать «логически строгой» увязкой идеи и слова (теории и термина), начисто выбрасывая за борт истории человеческие индивидуальности.
Полвека русские философы заклинали нас не идти на поводу у западноевропейского номинализма.
«Вообще марксистское понятие „класса“ может быть истолковано только номиналистически, а не реалистически», он «превращает классовые интересы в общечеловеческие идеалы» («самый передовой класс» и т. д.: [Бердяев 1907: 127]). Николай Бердяев возвращался к этой теме не раз. «Марксизм вполне номиналистичен по своему философскому мировоззрению, а в народ — пролетариат верит, как в реальность. Но ведь этот пролетариат никогда и никем эмпирически не может быть воспринят, такого факта не существует, это реальность тоже мистического порядка, и восприятие ее есть вера, обличение вещи невидимой»; «реализм должен победить номинализм, как в жизни, так и в мышлении. Классы, в том числе и класс „интеллигенции“, имеют значение феноменологическое, эмпирически выводное и подчиненное, в то время как личность и нация имеют значение субстанциональное и реальное, и потому им принадлежит центральное место в нашем миросозерцании. И личность, и нация — живые организмы, корни которых заложены бездонно глубоко, они неистребимы, классы — преходящие образования» [Бердяев 1910: 90, 3]. Резкие реплики по тому же поводу можно найти у Николая Лосского, у Семена Франка и у других мыслителей Серебряного века русской культуры.
Поскольку «номиналисты утверждают, что классы вещей суть связки индивидуальных явлений, нарастающие в силу ассоциации вокруг одного и того же слова», тогда «класс» и отождествляется со «свойством», которое и приписывается вещи [Лосский 1908: 244].
Интересное наблюдение сделал Илья Эренбург, описывая двух кудесников русского слова, классиков Серебряного века — Андрея Белого и Алексея Ремизова. Он заметил, что, «вдохновляясь корнями слов», один из них «мудрил», а другой «чудил» в своих произведениях. Наблюдение точное, но не объяснено по существу. А объяснение очень простое, оно вытекает из противоположных движений от слова, которым, как природные «реалисты», писатели играют. Это ведь путь в заоблачную туманность идеи— и Белый мудрит, путь другой — в телесность «обезьяннего царства» — и Ремизов чудил в своем вещном мире. Поиски новой формы влекли то на взлет, то на вспых — и не соединились они еще в мерную ладность идеала. То же у третьего стилиста той поры — у Василия Розанова, у которого, по словам Пришвина, был постоянный «страх перед кошмаром идейной пустоты (моровое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее» — страх перед вечной идеей, который исчезает при всякой возможности проверить ее на природной «вещи».
Подобное движение мысли можно проследить на многих примерах. Идея растет в слове, и рост происходит — постоянно.
Удвоение сущего
Следовательно, и русское сознание не раздвоено; наоборот, это у него всё удвоено.
Особенности языка свидетельствует о том непреложно. У нас всегда существовало как бы два языка — литературный, сакрально важный, в прошлом даже церковно-славянский, а с другой стороны — язык бытовой, народно-разговорный, для контраста с первым его называют профанным. Первый — литературный — работает в сфере абстрактно-обобщенных смыслов, высоких идей, отвлеченных мыслей, основная текстовая его единица — это символ, который в наше время стремится к понятию, заменяется понятием в виде иностранного термина-слова, как бы воссоздающего смысл гиперонима. Что это так, можно видеть на примере современных переводов Евангелия [Колесов 1995]. Старинные символы высокого стиля нынешние «точные» переводы стараются перенести в однозначный план понятия, для того чтобы неискушенный читатель мог без особого напряжения мысли понять текст. Скажем, теперь, оказывается, не годятся слова типа ризы или сандалии, их следует убрать, а вместо них поставить слова одежды, обувь или даже (верх номинализма!) слова рубашки, сапоги и т. п. Многосмысленность старого символа в слове высокого стиля, соединяющего вещь с идеей, подменена родовым обозначением вещи, гиперонимом. Слово и вещь современным концептуалистам представляется более важной связью, чем отношение идея и вещь, данное в слове.
Второй язык — бытовой — служил и служит для обозначения конкретных вещей, событий, действий и лиц, переданных, обычно, в образных формах; здесь движение мысли от вещи к образу. Вещь пре-образ-уется в образ. Здесь нет никаких «понятий», потому что раскрытию смысла, пониманию, служит ситуация, характер действий — вообще мир вещей, которые с нами и вокруг. Такие вещи предстают в своей цельности, воспринимаются слитно в синкретизме собственных свойств. Образность выражений — выдающаяся черта народной русской речи, очень объемно ее бытование в России показал в словарях Владимир Даль. Сегодня эту особенность обычной речи стараются сохранить писатели-«деревенщики», что понятно: они отражают то, что описывают, а в русской деревне находятся и теперь носители русской речи.
Почти каждая структурная особенность русского языка указывает на то же удвоение. Даже в звучании, в произношении можно найти особенности, неизвестные другим языкам. Например, трудно усвоить иностранцу русское противопоставление согласных — твердые последовательно противопоставлены мягким. Мать и мять, сад и сядь и многие другие (все такого рода) пары иностранец станет передавать по-своему, скажет, например, мьять или сьять, аналитически, двумя звуками передавая символический синкретизм русского мягкого согласного. Крайности мягкого и твердого звучания — те же крайности характера; даже не все славянские языки в полной мере сохраняют эту особенность устной речи.
Каждое слово четко делится надвое, в нем основа и окончание. Простейшее правило, известное школьнику с ранних лет. Однако в этом противопоставлении тоже заключена великая двойственность. Основа слова (корень с суффиксами) несет значение смысловое, лексическое, тогда как окончание передает значение грамматическое, указывает на связь слов в высказывании. Лексическое значение всегда конкретно, оно обслуживает нужды образа, символа и понятия, тогда как грамматическое значение отвлеченно-абстрактное, служит для указания на класс и род, к которым относится слово и само по себе, и в контексте речи. Та же самая противоположность — между конкретностью вещи и отвлеченностью идеи. Но в слове и конкретность вещи, и отвлеченность идеи мы сопрягаем совместно, воспринимая их единство как единство самого слова.
В европейских языках, по крайней мере в большинстве их, подобная двойственность выражения — значение и смысл формально разведены — утрачена, и им приходится налегать на логику, потому что в мышлении язык не помогает мысли. Логичность суждения перекрывает психологические недостатки предложения. Петр Бицилли полагал, что путаница в предложно-падежных формулах заставила англичан отказаться от склонения форм — и тем самым как-то улучшить язык. Ошибка привела к положительному результату. Датский лингвист Отто Есперсен считал, что результат был заложен в духе самих англичан: освободиться от лишней формы. Одномерность формы не дает однозначности смысла. А «в русском языке от любых слов одной категории можно производить слова любой другой. Это совсем не то, что в английском языке, где у имен и глаголов одна и та же внешняя форма и где поэтому смысл слова определяется в каждом данном случае тем, что перед ним стоит: to [перед глаголом] или the [перед именем], — или же, наконец, просто его местом во фразе. Для того, что называется „духом“ русского языка, характерна способность любого „корня“ обрастать любыми приставками, суффиксами и окончаниями — точнее говоря, не корня, а слова» [Бицилли 1996: 590]. Английская конструкция логична — и суховата; в ней отсутствует логика духа.
В русском предложении могут сходиться разные, иногда совершенно противоречивые формы, отнесенные к реальности, но это только увеличивает образную силу суждения. В древности такая особенность речи очень заметна. У протопопа Аввакума: «Он меня бранит, а я ему рекл: Благодать тебе в устех твоих да будеть!» В романе Андрея Белого «Петербург» совершенно разрушены не только временные, но и причинные связи, но это тоже лишь помогает дискурсу выразить объемность смысла.
В сущности, все примеры, которые приводятся в этой книге, иллюстрируют мысль об удвоенности сознания через слово. Например, когда речь заходит о парах слов типа стыд и срам, радость и веселье, правда-истина, путь-дорога, совет да любовь, мы воочию видим противопоставление отвлеченно-идеальных срам, веселье, истина, путь, совет и конкретно вещных, временами даже «телесных», соответственно стыд, радость, правда, дорога, любовь. О каждом из них сказано в своем месте; здесь заметим, что первый ряд имеет отношение к стилю высокому, а второй — к обычному, даже низкому. Давно замечено наше пристрастие к обильному заимствованию чужих слов, смысл которых будто бы тот же самый, что и в коренных словах родного языка: отвлеченный—абстрактный, предмет—объект, полный—абсолютный, действительный—реальный, понятие—концепт... Вот и Петр Бицилли защищает слово проблема (ныне без этого слова — никак!). «Зачем проблема, когда есть вопрос? Но проблема не просто — вопрос», можно сказать и задача, но разница в том, что проблема — вопрос теоретический («умозрительный»), а вопрос — практический [Бицилли 1996: 611—612]. Так полагали полвека тому назад. Потом проблема стала «вопросом, который требует разрешения», а в наши дни, говоря: «проблема» — имеют в виду и вовсе «неразрешимый вопрос».
На частном примере мы видим движение мысли, направленной реальной точкой зрения, от слова. Разведение двух почти однозначных слов, русского и заимствованного, укладывается в привычную схему удвоения сущностей. Проблема как теоретический > требующий разрешения > неразрешимый вопрос расходится со смыслом русского слова, все дальше вступая в вектор идеи.
Оказывается, язык идет наравне с нашей мыслью; более того, «мысль направлена словом» (прекрасные слова Александра Потебни). Как в мысли идея сопрягается с «вещью», так и в языке смысл слова сливается (и непременно!) со стилем. Немудрено и понятно: всё оценивая с точки зрения нравственной, русский человек и значения слов оценивает в отношении к стилю. Как будто согласен с известным выражением: «Стиль — это человек», а смысл, конечно, это уже личность.
Во многом такое слияние смысла и стиля — реального и действительного — объясняется складом русского языка, образного по характеру и риторичного уже по структуре. В одной и той же словесной форме могут соединиться внутренне противоречивые значения, и мы не ощущаем их взаимной несводимости (оксюморонности), опуская знание о том в свое под-со-знание. Жемчуж-ин-ами с суффиксом единичности при окончании множественности; стро-ящ-ий-ся — причастие с суффиксом действительного залога при «страдательном» ся; трижды крикнул — указание на повторяемость однократного действия (при суффиксе -ну-); иду я себе вчера — настоящее время при указании на прошедшее и личное местоимение я при возвратном себе — и многие другие примеры такого рода из школьных учебников по русскому языку. Нашу речь пронизывают оксюмороны, плеоназмы, гиперболы и прочие риторические тропы и фигуры. Плеоназмы типа служба сервиса, патриот Отечества, внутренний интерьер создаются во множестве, поддерживаемые особенностями русской речи. Стоят новые столы — трижды передана идея множественности. Вновь заимствуемые слова также подвергаются удвоению смысла. Суверенитет понимается как независимость нации (вещно) или государства (идеально), демократия воспринимается как власть народа (вещно) или избранного народом меньшинства (идеально) и т. д. Отсюда возникает подмена понятий, выгодная той или иной стороне.
Сравнение с другими языками тоже показательно. Так, в народном фольклоре англичан за всеми обозначениями, например, лица или цвета «чувствуется субстанциальность», т. е. намеренное обозначение признака как вещи, тогда как «русский фольклорный менталитет за цветом видит смыслы, а потому и цветообозначение приобретает статус сущностной характеристики» [Петренко 1996: 52—53], т. е. не вещи, а ее идеи. И «лицо человека видят оба этноса» по-разному: английское слово face «используется функционально: лицо как способ передачи информации, русское лицо — экран эмоциональной жизни, сигнал красоты, причем у каждого народа присутствует своя особая «точка красоты» — у англичан это щеки и губы (вещно), у русских — идеально глаза [Там же: 97].
Все такие сопоставления в области «низовой культуры» позволяют понять отсутствие подобий при наличии внешних сходств. Земное тяготение обязательно долит и англичанина, и русского мужика, но в разной степени. В представлении русского в каждой земной вещи соприсутствует нечто божественное, что становится идеалом. «Нерасторжимое единство божественной и природной сфер бытия» в русском сознании философы отмечают с XV в., а это «свидетельствует о пронизанности невещественными обожительными силами материального бытия, о соучастии божественной силы в пронизанности и оживотворении всего сущего», т. е. в сущности пантеизм, который противоречит «каноническим воззрениям христианства об онтологической несовместимости идеального и материального начал» [Мильков 2000: 252].
Отступление в философию
Оно уже началось, это отступление. Ничего не поделаешь, придется продолжать, коль скоро речь зашла о «невещественном», но вещи при-сущем: о мета-физическом.
Русские философы постоянно утверждали, что да, идея для русской ментальности важнее факта-вещи, а бытие существенней со-бытия; концепт значительнее понятия, и будущее нас влечет больше, чем настоящее, и символ — чаще, чем понятие, да и действительность нам кажется неправильной, если она не соответствует реальности — идее идеала. Современные культурологи объясняют просто: идея есть образец, спроецированный внутри, даже — изнутри, это увековечивание «я» в предметности мира, а уважение к себе сохранить важно, особенно если «идея рассматривается нами как любовь» — всеобщая сила единения [Петраков, Разин 1994: 8]. Из действительности вещи слово создает реальность идеи.
То, что на Западе называют понятием: совмещенность содержания и объема, — у нас как бы двоится на содержание-признак и на предметность-объем; в этом русская гносеология: содержание есть идея, а объем равновелик вещи. Об этом говорит философ конца XIX в.: «Знание предметное все насквозь, с начала до конца, опосредовано субъективным. Истина предметная, к приобретению которой оно стремится, есть не вся истина, но только часть ее, еще вопрос, важнейшая ли даже часть ее. Ведь кроме предмета, к которому познающий субъект стоит и должен, по основному предположению предметного знания (определенность предмета, независимая от случайного восприятия его, случайной мысли о нем), стоять в отношении внешности, остается еще самый этот субъект, который тоже ведь знает нечто о себе, и знает первее, непосредственнее»; знание постигает феноменальное, а вера субъекта постигает «знание самого существа», «полной истины» [Астафьев 2000: 407] — в концептуальном признаке.
Реальная рефлексия по этому поводу должна отражать историческую действительность развития. Любой философ представляет это себе вполне ясно. Используем сводную схему [Пелипенко, Яковенко 1998: 147 и коммент. на с. 166, 190]:
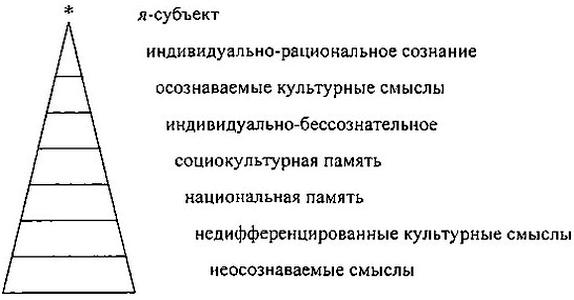
Таковы уровни «первотектональных интенций» субъекта, первые три сверху охватывают лично-психологические, два следующие — социальные, два нижних — природно-физические свойства (в синкретизме представлений). Вопрос в том, какие уровни принадлежат ментальности и до каких пределов распространяется менталитет того или другого этноса? Концептуальная зона распространяется на все уровни, кроме двух нижних, которые вообще не следует открывать, ибо это «убьет трансцендирующий импульс» [Там же: 152] — что совершенно верно. Это — разведение Природы и Культуры, опосредованное социальным статусом той и другой. Остальные фазы «семиотического цикла» авторы представляют в такой последовательности:
1. Целостное нерасчлененное апофатическое переживание;
2. Распад единства под действием отчуждающей рефлексии;
3. Первичная семиотизация в замещенной форме («имянаречение»);
4. Обретение адекватного кода;
5. Окончательное смещение к знаковой структуре;
6. Замыкание знаковой структуры полностью в себе.
«Семиозис всегда догоняет» — но что? Он догоняет жизнь.
Все этапы пройдены русским языком, оформившим национальную ментальность. При этом социально-национальные формы выработаны в эпоху Средневековья, а верхние уровни «семиозиса» формировались в Новое время. Так сложилась триада «интуиций» русского подсознательного, которую Николай Лосский назвал (сверху вниз) интуицией интеллектуальной, мистической и чувственной, а Иван Лапшин (соответственно) — инспирацией, интуицией и инстинктом. В таких определениях легче постичь сущность русского разума. Во всех случаях это именно интуиция, которая охватывает все уровни «семиозиса», но каждый из них отличается видом на общем роде интуиции. Это восхождение от вещи к идее, как оно представлено исторически.
Ум за разум
Особенности русского ума приводят постороннего наблюдателя в отчаяние. Иногда ему кажется, что ума-то и нет, в наличии нечто иное.
Таким «иным» представляется ум своеобразный, то есть, в понятиях западного человека, опять-таки не ум вовсе. «Особое место среди этих оценок и установок занимает уникальный русский ум, инструмент для поиска выхода из сложнейших жизненных ситуаций. Не потому ли именно русские всегда были способны выживать в тяжелейших условиях, придумывая нетривиальные решения и используя их все не по назначению, но поистине гениально, не потому ли именно „русские мозги“ так высоко ценятся и представляют собой дорогостоящий, но искомый товар для цивилизаций, держащихся за прагматические принципы (номинализма. — В. К.)? И не в силу ли названных ранее причин русские сами не понимают или не желают понять, какой замечательной вещью они обладают, и не могут оценить ее по достоинству?» [Голованивская 1997: 163].
Понять-то понимают, как не понять... Оценить не могут: за морем товар лучше. Уж ежели там и бананы растут — что уж нам...
Что же касается «названных ранее причин», речь идет о понимании ума как инструмента или природного ресурса, как основы жизни, на которой стоит человек, как вместилища самых различных душевных свойств, включая совесть. «В современном языке... ум ассоциируется в первую очередь со способностью человека принимать решение, то есть порождать новое знание» [Там же: 158]. А это не разум, не рассудок, даже не мудрость, которые связаны с обыденными способностями наблюдать, сопоставлять и мыслить о вещах и событиях. Ум охватывает сферы идеи — тех высших сущностей, которые в случае необходимости способны направить человека на путь истинный. Душа и совесть — живые, они «переживают» и судят, тогда как ум кажется неодушевленным инструментом, чем-то вроде топора и пилы, с помощью которых можно прорубаться сквозь чащу или построить дом. Многие пословичные выражения наталкивают на эту мысль автора [Там же: 134—138]. Однако в подобном несходстве таится обман. Обманывает родовая принадлежность слов: душа и совесть женского рода, ум — мужского («женское, детородное, хаотическое, эмоциональное — основа жизни»). Именно такое впечатление и можно вынести из русских словесных форм. Русское сознание предстает одушевленным. А холодная деятельность рассудка ничем не одушевлена.
Вот почему «в русских умах есть какая-то философская свежесть» [Струве 1997: 265], и это, конечно, связано с языком. Еще Вильгельм фон Гумбольдт заметил, что «язык народа есть его ум, а его ум — его язык; мы никогда не можем достаточно постигнуть всю их тождественность».
Также и в интуиции русских философов XX в. можно заметить постепенно усиливавшееся отталкивание от традиционной троичности «ум—душа—дух» в пользу «этимологического», согласно номинации двоения «дух—душа». Впечатление такое, будто интеллектуальный компонент духовной троицы остается за пределами допустимых оценок.
Впечатление ошибочное.
На основании материалов «Толкового словаря» Владимира Даля показано [Фархутдинова 2000], что в русском представлении ум не только интеллектуальная, но и нравственная сила; ум — то, что делает человека личностью и предстает как «жизненная колея» (доходить до ума, сходить с ума и т. д.). Ум и есть, в конечном счете, душа, одинаково можно сказать чужой ум и чужая душа — и то и другое потемки. Ум определяет линию поведения, он может отчуждаться, как и душа, и в этом состоит подвижность и гибкость ума, дарованного человеку судьбой. В народной культуре «русский ум осмысляется как поведенческая категория» [Там же: 118]. Ум в проявлениях воли, тогда как разум понимается как простой рассудок, как способность к отвлеченной мысли, соотнесенная с памятью, понятием и суждением (у Даля это intellectus, Vernunft). Разум тут скорее средство, некое явление, а не сущность, тогда как ум, конечно, и есть душа.
Русский ум особенный. Даль говорит о нем, как о заднем уме. Русский человек «задним умом богат». Можно подумать, что задний ум всегда отстает от уже совершенного дела или испытанного чувства — осмысляет «задним числом» событие. Однако этнографы XIX в. показали, что в русском представлении задний ум объясняется скудостью специальных знаний, недостатком достоверной информации и даже отсутствием разделения труда. Современное о нем представление «как итог, который русский человек подводит в результате самоанализа» [Там же: 119] делает упор на рефлексию «самоедства» и представляется слишком натянутым, привязанным к узко интеллигентскому пониманию дела; это ведь интеллигент комплексует по всякому поводу. Задний ум у самого Даля скорее соответствует общему смыслу слова задний — то, что следует потом, а не сзади (задним умом догадлив — только после ощущений и чувства). Тут приводят и слова Лермонтова: «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом» — с запозданием развившимся? Пространственное задний заменено временным поздний. Но, как замечено, «русский народ, как и всякий народ, задним умом крепок» [Шульгин 1994: 193] — всякий народ; кроме того, критичность заднего ума не столь уж бесполезна, а слова Саваофа в древнем переводе Ветхого Завета: «Увидишь задняя моя!» — очень часто повторяли в средневековой Руси с амвонов. Для Михаила Пришвина [1986: 363] несомненно:
«Итак: 1) Задний ум (природа).
2) Общий ум (человек).
3) Свой ум (сам-человек)».
Апелляция к природе не столь уж и плоха в критический момент, когда лишь природа и спасает.
Русский ум
В поисках признаков «русского ума» философы определили, что ум не следует смешивать с понятливостью, с образованностью и тем более с хитростью — вообще ни с каким формальным или внешним его проявлением. Как всякая идеальная сущность, «ум» не суетен и не навязчив. Ум есть достоинство человека в своих положительных признаках, «русский ум есть ум безличный по преимуществу» (Чаадаев), а русские одарены «слишком острым умом» — «на их несчастье» (Федотов), потому что русский ум в конце концов «укоренен и центрирован в сердце» (Вышеславцев), а русский умен инстинктивно, «он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников» (Гоголь). В средневековых текстах человек есть орган «мыслящей души», явленный прежде всего в зрении, и современный философ как бы восстанавливает этот образ: «Русский ум связан с душой», у русского «ум — это умное смотрение на мир из одной точки» [Гиренок 1998: 301, 253]. Всю русскую культуру и русскую историю «и все наше теперешнее сознание создал только наш, русский, ум» (Шелгунов), действие которого состоит именно в соединении совестного акта с действительностью фактов. С одной стороны, «замечательно, что самые замечательные умы, если в то же время они были явно порочны, не были полные, сытые умы» (Розанов); с другой стороны, «русский ум есть ум преимущественно практический; русский простолюдин, крестьянин, может быть круглым невеждою, но у него врожденное практическое чутье, которым он пробавляется и делает свое дело», да к тому же «в русском уме есть жилка шутливости: мы более насмешливы, чем смешливы...» (Петр Вяземский). Отталкивание «от фактов» или, как говорил когда-то Нил Сорский, «восходим» от вещи к идее, — важное свойство русского ума. «Ум наш требует фактов, доказательств; фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов. Фанатическое увлечение идеей вообще, сколько мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чисто русского ума» [Писарев 1949: 74]. Именно такое недоверие к «идее», не проверенной в опыте, опасно: и «в русском уме есть что-то, что мешает ему идти дальше. Это „что-то“ — идейная пустота» [Шелгунов 1895: 589]. Революционные демократы и пытались заполнить эту пустоту — заемными идеями. В действительности же это — чисто русское отвращение к накопительству: у нас «ум есть, но нет накопительства его», и следует усилить «накопление разума», ибо у западных европейцев такое накопление завершено «и они ближе к возможному пределу развития», у них разум «из отвлеченной силы вследствие накопления сделался силой действующей, idee force» [Меньшиков 2000: 533—534].
Русский ум проявляется в действии, в момент соединения идеи и вещи, а это процесс интимный и посторонним невидим. Это вызывает подозрительность иноземца, который говорит о ментальной и культурной «запутанности» русского ума, основанного на неоплатонизме. Русский ум ищет интенсивной тотальности во всем (а это и есть идея!); например, «понятие правды пропитывается этическими и эстетическими содержаниями, выражая единство правды, справедливости и красоты» [Брода 1998: 98].
Щедрость сердца и требовательность к себе способны вызвать вспышку подобного слияния идеи и вещи («настоящий ум скромен» — слова Розанова), так что «в России быть умным гораздо труднее, чем где бы то ни было», говорил Николай Шелгунов, и потому «накопление разума» осуществляют заведомо случайные люди — собирательная посредственность. «Вся история нашего умственного развития во все ее многовековое существование проходит в борьбе двух слоев интеллигенции — собирательной посредственности с средним человеком. В этой борьбе и проходит собственно вся наша умственная жизнь, — жизнь, подчас просто невыносимая, уносящая силы на повторение тысячный раз того, что, казалось, было уже совсем решено и принято. Вот, кажется, уже окончательно решено, что просвещение — свет, а непросвещение — тьма... и тут опять собирательная посредственность подняла голову и раздается клич, что нам не нужно ни образования, ни просвещения... Гёте говорил, что люди, узнав слово, воображают, что поняли и его смысл; но есть такие слова, в которых именно и заключается весь их смысл. Такое слово и есть „собирательная посредственность“» [Шелгунов 1895: 966—967 и 970].
Уточним признаки русского ума сравнением с западноевропейским ratio.
Традиционное мнение о нем сформулировал знаменитый психолог в начале XX в.: «Западный ум холодный, эгоистичный, человеконенавистнический. Он слишком подавляет добрые чувства. Он смеется над самопожертвованием. Он презирает милосердие и сострадание» — и потому нам противен, в противоположность ему нам следует «развивать русский ум» [Ковалевский 1915: 60]. Непоследовательность в суждении понятна, вообще-то ум нехорош, но русский ум окажется лучше. Может быть, и так, но если признать, что русский ум — это душа.
Центральным органом мышления в понятиях русский язык признает ум, во французском это esprit, т. е. дух как сущность человека, у русских данная в образе души. Во французском языке нет точного эквивалента русскому слову ум, но и русский ум не соответствует французскому esprit, который, скорее, практический разум в образе, например денежной наличности [Голованивская 1997: 162]. Для всего свои резоны (raison из ratio) — вот установка французского ума, который согласуется с европейским пониманием ума: рассудок как способность рассуждений и разум как способность целеполагания [Там же: 123]. Слово sens (способность восприятия органами чувств) в свою очередь «развивает линию esprit» Там же: 264], соединяя в общих усилиях ощущение, чувства, эмоции и разум.
В английском способность размышлять и знать приписывается душе, совести, духу, сердцу и уму, а уму, сверх других качеств, принадлежит и свойство воображения [Пименова 1999: 59]. Это в отличие от русского ума, которых (мы это видели) на самом деле два: сердце как табуированное название души и солнечное сплетение как сосредоточие совести («брюшной мозг» по Далю) [Там же: 78, 86]. Существенный признак ума — его движение (быстрый ум, подвижный ум и т. д.). Отчуждение чувства (души) от области познания симптоматично — оно устраняет из умственного процесса нравственное начало. В этом смысле английское понимание ближе к русскому, чем французское. Человек вообще не мыслит отстраненно от предмета своей мысли. «Человек мыслит, чувствует и хочет» — одновременно. «В мышлении всегда мыслящий противополагает себя мыслимому, девственное единство сознания распадается тут на субъект и объект. Рождается из целостного единства переживаний объективное мышление — познание. Субъект всегда психологически и индивидуально триедин, он — мыслящий, чувствующий и хотящий, но гносеологически он един, он — только мыслящий, т. е. познающий. Познавать — значит в конечном счете — только мыслить... Логическое долженствование есть принудительность не sollen, a m?ssen» [Струве 1997: 351, 355].
Мы говорим об уме как способности познавать, но русский ум неполон без соединения с высшим его проявлением — с мудростью.
Английское wisdom — здравый смысл, проницательность в данном деле; французское sagesse — благоразумие и даже послушание — чем не «рабское» понимание высшей степени ума? Русское слово мудрость возводят к древнему корню *men-/*mon-, известному и по другим славянским словам, например муде. Свидетельство авторитетного этимолога В. Н. Топорова: «Согласно архаическим народным представлениям, modo и есть средоточие мужского начала, мужской силы, энергии, которые проявляются как в умственной, так и в сексуальной жизни человека» [Понятие судьбы: 45]. Противопоставление знания непосредственного знанию глубинному или, как иногда говорят, внутреннему, понятно в речах русского реалиста, но недоступно пониманию рационалиста и эмпирика. Внутреннее знание, писал Петр Астафьев, по своей полноте, достоверности и глубине нисколько не зависит от внешних и случайных различий. «Людям простым, неученым, рабам и нищим это внутреннее знание, мудрость, столь же доступно, как и людям властным, богатым и с высоким научным образованием», и даже доступнее, ибо не обременено вторичными и сомнительными теориями. «Эта-то ничем отвне не смущаемая, непобедимая в доверии к своему неизменному внутреннему достоянию, самодовлеющая недоступность сомнению внутреннего знания человека о себе самом, о началах своей внутренней жизни, и составляет то, что называется "чистым сердцем" и "простым сердцем" и что справедливо почитается условием мудрости...» [Астафьев 2000: 424].
Выводы в заключение
Прервем изложение, чтобы показать основные характеристики «умственной сферы деятельности», как они представлены в русской ментальности. Используя многие суждения русских мыслителей, обозначим границы и грани.
Ум — одновременно и смысл, и самое вещество мышления человека, потенциальная возможность в одухотворенном хотении со-знавать (внутри и совместно) и по-знавать (самому и вовне); подчиняясь логике практической полезности и явленности, ум воплощается в разуме («ум без разума — беда»), отливается в законченные формы рационального рассудка и затем, в полном единении с душой и сердцем, по желанию и влечению постигает мудрость («разум душевный»); ум предполагает ум-ение в раз-уме, здравомыслие в рас-суд-ке и ум-озрение в мудрости. В нравственных установках русского человека ум является боговдохновенной энергией, которая в борениях личной воли и насланного извне искуса порождает раз-ум — красоту и добро, рас-суд-ок — истину и пользу, мудрость — благо и спасение, так чисто метонимически мы переосмысляем ум как воплощение предвечной силы в уме каждого отдельного человека; именно в этом смысле «русский ум не исходит из мысли, как ум германский, а из самой жизни приходит к мысли как к орудию жизни» [Бердяев 1989: 260].
Разум — первое воплощение ума, уже чисто человеческое его качество, предполагающее целесообразность и полезность мысли, слова и дела в их единстве как отношение субъекта к объектам мысли. Это ум-раз-ум, приближающий к практически ориентированному рассудку; ясность и чистота мысли определена способностью творчески мыслить по собственной воле и с личной целью. И относительно разума Николай Бердяев выразился в том смысле, что «большая часть научно позитивных направлений совсем не признает разум. В разум верят метафизики» [Бердяев 1918: 59], что верно, поскольку разум воплощает мысль предметно-образную, а не схематично-понятийную — сферу деятельности рассудка.
Рассудок — полезная способность ума-разума к осмыслению мира в четких оценках суждения, воплощенного в слове; это рациональное сопоставление признаков и явлений в категориях здравого смысла, когда доводы целесообразной полезности уже полностью вытесняют всякие чувства сердца и ощущения души; рассудочный человек рассматривает явления в логической их последовательности, т. е. чистому взгляду на цельность мира предпочитает аналитически выстроенные схемы и модели; при всем том рассудительность воспринимается как практически необходимое свойство умного человека. По мнению Алексея Хомякова, рассудок — это «окончательное сознание», за которым не может быть никакого посвящения в духовность первосмысла, т. е. возвращения к единству Ума (греческое слово???? обозначает не только ум, но и дух, это ‘умный дух’ или ‘духовный ум’).
Мудрость — целокупность ума-разума и веры, личной совестью сплоченных в надличностное знание (с возвращением к Уму); несет в себе глубинное понимание мира, воплощенное в абсолютных величинах символов; в отличие от разума мудрость опирается не на практическое умение, но на совесть — совместное ведение истины. Мудрость состоит не в конкретности здравого смысла (это рассудок), но в умозрительности, которая позволяет осознать и целостность бытия, не нарушая его единства, и движущие этим миром силы. Только мудрость в сплаве ума, духовности и сердечности иррационально способна достичь Премудрости, тем самым возвращаясь в божественное лоно Ума. Таково соотношение этих категорий в русском сознании, интуитивно понятое многими, например Гоголем и Львом Толстым. Возвращаясь к описанным ранее концептуальным квадратам, мы легко заметим, что разум обретается в области образа, рассудок имеет дело с понятием, а мудрость правит символом.
Мышление и мысль
В одном из романов Сергея Залыгина находим типично русское рассуждение: «Тогда уточним: мысль или система мышления? Это очень разные вещи, иной раз так прямо противоположные, так что мысль чувствует себя в системе мышления словно в карцере».
Принципы русского типа мышления в традиционной научной среде академик Моисеев [Моисеев 1998] обозначил так:
1. Это всегда системное мышление, исключающее как схематизм чистой идеи, так и схоластику словесной эквилибристики. «Первые немецкие учители приучили нас в науке к строгости конкретных наблюдений», на основе которых традиционная русская системность вызвала стремление «к построению широких обобщающих конструкций» [Там же]: 38]. Такая «системность» исходит из идеи целого как живого; попавший в систему элемент неминуемо получит свой особый различительный признак и тем самым формально встроится в систему, став своим элементом, не отчуждаясь как чужеродный.
2. Следование принципу Гейзенберга («невозможно отделить исследователя от его объекта») заложено в структуре русского языка, в котором субъект-объектные отношения передаются разнообразными способами, но всегда предполагают координацию между субъектом и объектом; даже категория залога здесь многомерна и многозначна. В связи с этим указывают на отличие русского сознания от французского: мышление в русском понимании на Западе вообще отсутствует, там от античности действует идея отражения, нам чуждая, поскольку русское мышление неспособно к отражению. Это связано, в частности, с распределением понятий в словесном знаке: «французское сознание более подробно членит пространство большей части понятий» (в языке больше слов), за чем стоит «особая чувствительность французского сознания к двойственности мира, к его подразделению на объективное, высшее, и субъективное, человеческое» (русское сознание и то и другое полагает онтологически объективным), а уверенность в существовании непреложных законов здесь подкрепляется строгостью судебных законов; «за русскими понятиями [о мышлении] стоят этимоны, восходящие к родовому строю (род—виды), за французскими — к государственному», и, «таким образом, французское сознание в большей степени склонно искать точное знание, нежели русское» [Голованивская 1997: 221].
3. Три принципа, обеспечивающие стабильность (по-русски — лад) в устойчивом равновесии мира, Моисеев представил в виде математических принципов: 1) невозможно всем быть — 2) чтобы быть, должно существовать разнообразие миров и культур — 3) компромисс должен быть таким, чтобы все остались уверены, что их не надует партнер. Все три принципа вполне выражены в категориях и формах русского языка, как они сложились с течением времени. Академик подчеркивает ту истину, согласно которой даже в области точных наук заметна тенденция к усилению национальной дифференциации работников, что обеспечивает «плюрализм духовных миров», создающий здоровье общества и общую возможность выжить [Моисеев 1998: 192—193]. Очень важное утверждение, которое прямо-таки взывает: русские тоже имеют право на кристаллизацию «национального само-сознания в сознание».
Каждый народ привносит в философию «не какое-то известное воззрение, а мыслительную способность, склонную к тому или другому способу познания, смотря по характеру народа» [Чичерин 1998: 268], а принятое всеми «получает характер общечеловеческий».
Очень бы хотелось того же и для русской ментальности.
Исследователи общественного темперамента заметили [Бороноев, Смирнов 2001: 8—12], что представление о национальном характере любого народа, кроме русского (но в том числе и у русских) всегда конкретно и создает вполне определенный образ эмоционально нейтрального содержания, тогда как иностранцы о русском характере имеют самое неопределенное, неустойчивое представление — от восторженного до самого уничижительного, с преобладанием все-таки «стереотипа удивления или недоумения» перед «загадочной русской душой» со всеми ее интеллектуальными особенностями. Казалось бы, нонсенс: русский с его «символическим мышлением» лучше понимает европейца, чем европеец с его пресловутым ratio понимает русского.
Никакого парадокса в этом нет.
Еще Екатерина II, немка, жившая в России, отмечала достоинство русского типа мышления «в остром и скором понятии всего» — безошибочно интуитивном прозрении сути по едва намеченным, но обязательно-фиксированным в слове внешним особенностям объекта. Ratio неспособен к целостному восприятию. Аналитический подход к постижению объекта в дискурсе его осмысления дробит цельность по различительным признакам, внешне несоединимым, диалектически противоречивым, антонимически несводимым в единство; речь идет не об отдельных людях системы ratio, а об их ratio — интуитивный тип возможен у любого народа, иначе не было бы и такого разброса мнений о русских. Неопределенность знания о русских начинается с самого термина русские — это признак этатического, а не этнического характера, примерно той же ценности, что и средневековое именование московиты, и тот и другой создают путаницу в понимании. Неопределенность определений (принадлежность к Московскому царству или к Руси-России) вызывает смещенные ассоциации. Иностранец не знает, что этнически русский — великоросс, он сформировался «под другую цивилизацию» со всеми ее особенностями [Бороноев, Смирнов 2001: 11], и оценивать его признаки по своим собственным лекалам нельзя.
Эти различия определяются уже особенностями языка. «Язык — не только средство передачи мысли. Он прежде всего — орудие мышления», он дает средства, «сберегающие, накопляющие умственную силу» народа, потому что «уже грамматические категории суть отвлечения. Но важнейшее действие абстракции сосредоточено не в формальных частях слова, а в его материальном (лексическом) содержании: конкретные представления обобщаются либо в типичные образы (искусство), либо в отвлеченные понятия (науки и философия)» [Овсянико-Куликовский 1922: 36, 37, 41]. Сжатое изложение принципов действия мысли в языке, данное здесь, подчеркивает важность как грамматических изменений, так и накопления в лексиконе. И то и другое в настоящее время в русском языке достигло высочайших пределов.
Что и обеспечивает особенности современного русского типа мышления.
Рассудок и разум
Но вернемся к суждению иноземца, дважды напечатанному по-русски.
«Древнее философское разграничение двух познавательных сил — рассудка и разума, — первая из которых делает возможным познать относительное, земное, определенное, а вторая — абсолютное, божественное, вечное, — получает в России особую культурную весомость, служа одновременно положительным контрастом для своей страны (а также православия) по отношению к Западу (и западному христианству). „Рассудок“, оцениваемый как „сухой“, абстрактный, поверхностный, „аполитический“, доминирующий якобы в Европе, противополагается свойственному России „разуму“ (интегральному), одобряемому как общинный, глубокий, интуитивный, который способен достичь уровня синтеза и который не входит в противоречие с религиозной верой. В корне гносеологическая, оппозиция рассудка и разума наполняется в русской культуре этическим, духовным, общественным, религиозным и историософским содержанием, ибо „рассудочности“, воспринимаемой как результат упадка, приписывается отрыв от нравственного начала, а также ее негативное (дезинтегрирующее, десакратизирующее и обособляющее от церковной общины) воздействие на жизнь личности и общества. В постулате возрождения интегральности разума, духовной и общественной жизни особенная историческая роль остается за Россией. Преодолевая одностороннюю „рассудочность“, разум способен постичь понимаемую в духе „мистического реализма“ сверхэмпирическую, высшую реальность и теряет, таким образом, свой сугубо человеческий характер; он познает и выражает божественность, выходит за рамки раздвоенности и изоляции, наполняясь эсхатологическим смыслом» [Брода 1998; также: Идеи, 2: 330, 332].
Ирония автора — от польского гонора, который выдает позицию. Мистическая и религиозная веры здесь смешиваются намеренно — или по забывчивости, как это и случается порой у концептуалиста. За каждым словом автора (и за ключевым словом словарного текста) видится самостоятельная идея, она разведена, тогда как в русской традиции рассудок и разум существуют в органическом синкретизме, представляя собою разные ипостаси одного и того же:
раз-ум божествен, это сверх-ум, но только в соединении с рассудком (разум по собственным свойствам ниже ума);
рас-суд-ок — земное его проявление, он судит в суждении путем рассуждения (собственно, это эквивалент ratio).
Раздвоенное проявление ума, данного как рассудок и разум, Мариан Брода связывает с неприятием на Руси «аристотелевского ratio»: «Согласно одной метафорической формуле, отличие России от Запада сводится к тому, что эта страна „не прочитала“ Аристотеля» — тогда как на Западе аристотелевский номинализм создал основную мыслительную традицию в концептуализации действительности [Брода 1998: 95]. Сказано верно, но неполно. На самом деле для России аристотелизм — это давно пройденный и уже в XV в. отвергнутый этап в развитии мышления. О нем с неодобрением говорили часто уже первые славянофилы: «Кажется, ум западного человека имеет особое сродство с Аристотелем. В самое начало западноевропейской образованности заложено было сочувствие к его мышлению» [Киреевский 1911: 233]. Исторически на Западе после XIII в. «Аристотель одержал полную победу над Платоном. И как он положил, так остается лежать до нашего времени» [Шестов 1912: 58].
Между тем отличия в позициях значительны. В то время как (нео)платонизм исходит из единства целого, западное (неотомистское) мышление опирается на аристотелевскую традицию, согласно которой «обособленность, ограниченность, конфликтность, дифференциация, преходящесть, случайность и т. п. считаются здесь состоянием, с которым принципиально можно и необходимо считаться, концентрируя свои усилия на — создающем в свою очередь неуклонно новые проблемы — решении конкретных проблем» [Брода 1998: 95].
Соотношение рассудка и разума в русской ментальности глубже, чем это понял польский философ и вообще западный читатель. Разум — не понятие и не идея, а символ («сверх-ум»), который легко соотносится с верой, с волей, с совестью, то есть проникнут идеальными признаками бытия-знания. «Рассудок дает «предметное знание», тогда как вера (один из предикатов разума) «составляет самую душу, движущее начало нравственной воли», — писал Петр Астафьев. «Рассудок сам по себе ничего не полагает, не творит, но лишь познает то, что ему дано, перед ним положено. Сфера его действия ограничена пределами данного опытного факта... Безвольный и бесстрастный, он занят только вопросом о том, что есть, но не о том, что должно быть... Там же, где нет ни веры, ни идеала, ни этого стремления, определение цели принадлежит простой потребности, данной как факт» [Астафьев 2000: 392—393].
Объемы вещны и легко постигаются при первом же с ними соприкосновении. Содержание же вещей, их смысл и ценность не-обо-зримы, и потому «разум не может не быть связан с Логосом. Пустое место, зиявшее в русской душе именно здесь, в „словесной“, разумной ее части, должно быть заполнено чем-то» [Федотов 1989: 88], и оно заполняется чужеродным навязанным, если в разуме отсутствуют собственные цели и ценности.
«Существо разума состоит в том, что он внешнее разнообразие явлений сводит к общим категориям, составляющим собственные его определения как деятельной силы. Содержание он получает из опыта, но формальные начала, к которым сводится это опытное содержание, установляются им самим. Как относительно познания, так и относительно деятельности основное требование разума состоит в подведении эмпирических данных под эти общие формальные начала, составляющие его сущность. Поэтому, как разумное существо, человек должен действовать не на основании тех или других частных побуждений, а на основании закона, общего для всех» [Чичерин 1998: 141]. Разведение ума на разум и рассудок является двоением отражения, аналитически представляя единство опыта и сознания. Потому что «западная культура ставит вопрос о знании, восточная — о бытии» [Астафьев 2000: 404], и это определяет расхождение в форме его постижения (множественность фактов в единстве восприятия или единство факта в двоении восприятия — «бифокально».
Иван Ильин особенно подчеркнул это различие между западным и русским стилем мышления. Современный духовный кризис состоит в том, что «мысль утратила свою первозданно-глубинную почву; она заблокировала себе накрепко доступ к духовному опыту, она ухватилась за чувственный опыт, за наблюдение явлений и событий с их внешней стороны — описание их, исчисление и уяснение причинности. Поэтому мысль стала абстрактной и мертвой; это уже не разум, а голый рассудок. И этот абстрактный рассудок — без сердца и проницания — превратился в единственный источник правды и культуры.
Благоразумие и вера исчезли, кризис стал необратим», потому что «рассудок знает только чувственный опыт. Он имеет дело только с материей — с материей без жизни, без живительной тайны, без духовности, без цели, без Бога. Одним словом, материя, слепая механика, анализ, а коль анализ — все разлагается на части, все умерщвляется» [Ильин 6, 2: 22]. «Разум, таким образом, — это творческая прозорливость в восприятии и творческая сила оценки в единстве, разъединении и упорядочении воспринимаемого. Он предполагает способность к концентрации и силу интуиции. В его власти охватить сущность всего и целесообразно оформить его. Поэтому разум не сводится к „мышлению“. Умный — это умный человек в целом: у него также умное сердце, умная воля, умная фантазия. Только тогда он умен: только тогда дышит в нем сущность мира, только тогда его разум становится мудростью» [Ильин 3: 162—163].
В этих кратких определениях выражена суть русского представления об уме вообще и о двух его проявлениях в частности. Кроме того, становится понятным внимание к традиционным формам русской ментальности: «кто захочет понять Россию и русскую культуру, тому придется иметь дело с этим духом» [Ильин 6, 2: 22].
Именно с этим, и никаким иначе.
Мысль и дума
В свое время Чаадаев вопрошал риторически, сам себе отвечая: «Во Франции на что нужна мысль? — чтоб ее высказать. — В Англии? — чтоб привести ее в исполнение. — В Германии? — чтоб ее обдумать. — У нас? — Ни на что! — и знаете ли, почему?» [Чаадаев 1914: 155]. Знаем: твоя мысль — не моя мысль.
Потому что русская мысль — это дума, именно в ней «сильнее и сильнее начинает пробегать струя русской мысли», — говорил Алексей Хомяков. Соборный характер русского мышления, диалог как внешняя реальность (действительность вещи), способствующая — посредством слова — воссозданию реальности внутренней (идеи). Слово, идея и вещь сопрягаются в едином событии, создавая уверенность в правде, которая достигнута в результате такого мыслительного акта. Коммуникативная роль диалога раскрыта именно на русских текстах — Михаилом Бахтиным на произведениях Достоевского.
«Русские не могут жить и думать в одиночку», — заметил современный автор (Л. Г. Тульчинский), и это верно: думают соборно, потому что исконный смысл слова дума ‘говорить советуя’.
В древнерусском языке мысль всегда индивидуально вещна, тогда как дума идеально соборна, и русский скажет, различая: думать и мыслить. Разница в том, что мысль и мыслить связаны с личным желанием, намерением в деле (переводят и греч. ???????? ‘хотеть, желать’), и только думати значило размышлять в идее [Действие 1993: 30—40]. Мысль может быть опредмечена, явлена, дума — нет. И мысль и дума для авторов цитируемого сборника статей — гиперонимы, а это не совсем верно. Мысль — слово-гипероним на фоне идеи-символа, мысль включает в свое содержание все признаки умственного напряжения; дума же — символ, в котором все признаки различения — отрицательные [Там же: 9—10]. Мысль есть результат думания посредством ума; так возникает последовательность источник—действие—результат.
Приятно ум чужой своим проверить.
На меру взять и на вес; глупость мерить —
Напрасно труд терять,
— говорил не кто-нибудь, а мудрый царь всех берендеев.
Русские писатели чувствуют концептуальное различие между мыслью и думой: русский «мужик всегда чувствует хорошо, потому он и думает хорошо», тогда как «одичавшая в одиночестве мысль утрачивает живую восприимчивость, упругость и гибкость и костенеет до того, что для нее не существует никаких других мнений — ни отдельных лиц, ни целых народов» [Шелгунов 1895: 357]. Вот почему, добавлял Николай Шелгунов, «мы, русские, давно уже составили себе репутацию людей, для мысли которых не существует ни границ, ни пределов, ни пространства, и неудержимой смелости нашей мысли всегда изумлялась Европа» [Там же: 599]. Современный писатель, Сергей Залыгин, о своем герое уточнил: «Между прочим, отношение к мысли, как он выяснил, оказалось вопреки первым впечатлениям очень чувственным», а «истинная мудрость состоит в том, чтобы мысль знала свое место, не совалась бы куда не следует», поскольку «по закону равенства действия и противодействия столько же, сколько накапливалось в мире ее, могущественной мысли, столько же появлялось и антимысли, то есть бессмыслицы». Ясно, почему такое накопление глупостей происходит: мысль формальна, и всё может о-с-мысл-ить.
Не множа цитат, обобщим ироническими словами Андрея Платонова: «Мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью».
Разум различает истину и ложь, мудрость — добро и зло, ум — хорошее и дурное (прекрасное и безобразное). «Если мысль должна действительно родиться, она должна зреть в тишине, пока не потребует слова» — «это внутренний духовный заряд», который «приходит в мир как реальность внутреннего» [Ильин 3: 158].
Именно потому, что в современном своем состоянии мысль оторвана от думы, всё дальше от нее отсекается, и происходит (не только у нас) замеченное историком еще в начале XX в.: «Мысль стала развязнее, не сделавшись деловитее... Мыслят так быстро, что не успевают подметать своих мыслей... Телефонное мышление... Спорт — единственный метод мышления» [Ключевский IX: 444, 386, 437].
Из прошлого русские получили идею «умной души», то есть духа, в душевности думы (задуманного, задумки) осветляющего решение проблемы также и с нравственной стороны. Роль общественного мнения чрезвычайно велика, но это, конечно, не усредненное мнение «средств информации», а неформальное общественное мнение, которое — в русском духе — обычно не в ладах с такими «средствами». Личное чувство стыда постоянно проверяется осудительным мнением окружающих (по-срам-лением с их стороны), своя совесть — соборной справедливостью, а правда, даже не личная, а, например, партийная, — божественной силой истины.
Затем важно еще и то, что русская философия не приняла «претензию европейской философии на универсализм логически организованного мышления, наделившего Запад техникой господства над человеком и природой», и осуждает западного человека за «готовность повиноваться указаниям разума», поскольку логическая принудительность такого Разума является специфической формой насилия [Барабанов 1992: 145]. Сам автор цитаты полагает, что «в этом пункте русская мысль отчасти предвосхищает проблематику „Диалектики просвещения“ Т. Адорно и М. Хоркхаймера»; трудно согласиться: почему «отчасти» и почему только «в этом пункте»? Повиновение разуму в ущерб природе — головная боль западного человека, которую вот уже два века своими заклинаниями пытается снять русская философия. Зависимость светлой идеи надежней держит человека в миру явлений, чем гнетущее рабство под человеческой мыслью. Мысль земная, бренная, тленная — в ней нет идеального. Без идеи она мельчает, и вот вам — «мысль стала развязнее...».
Тут расхождение между русским и западным человеком налицо.
Понятно почему. Западная мысль взяла из Логоса только часть его — «мысль», но метонимичность сознания в православной среде по-прежнему в Логосе — в целом — видит часть его, именно слово, то есть язык как воплощение мысли.
Архетипы русской мысли
Непонимание архетипов русского менталитета сегодня достигает невероятных пределов. Я раскрываю томик московских лингвистов «Логический анализ языка. Ментальные действия» (1993) и вижу сразу несколько статей, связанных с нашей темой. Один автор показывает историческое развитие глагола мыслить — и никак не соотносит его семантическое изменение с близким по смыслу глаголом думать; тот дан во вторичных только своих значениях. Другой автор изумляется той интеллектуальной «неопрятности», которую находит в русском сознании, когда речь идет о глаголах мышления.
В западноевропейских языках, оказывается, всё логично, процесс и предмет мышления обозначены общим корнем. В русском же языке — полный разброд: вот «центральное поле: думать и мысль, англ. to think и thought, idea, франц. penser и pensee, idee». Забавно: русского слова идея как бы нет; мыслить и дума — также. Для русского человека всё это странно, испокон веков говорят думать думу, потому что думать можно только совместно, это соборное дело, это — диалог. Мысль заменяет думу как выражение индивидуально-личного результата рационального мышления.
Третий автор соединяет общим смыслом слова думать и считать как одинаково выражающие предположение (я думаю как я считаю) — но такое значение глагола думать является семантической калькой с выражений типа I think so (исконно думать значит ‘говорить (выражая мысль)’. В чем тут дело: в непонимании? в желании изменить семантическую траекторию русского слова? Дело ненужное, оно непредсказуемо по последствиям.
Типологический подход к суждениям о языке и мышлении вряд ли продуктивен.
Филологу вообще кажется очень точным определение мысли как заботы (Sorge), данное Мартином Хайдеггером [Арутюнова 1993: 3]. В этом смысле русский человек действительно оказывается совершенно беззаботным. Мысль для него обязательно связана со словом, и как таковая она противоположна реальной вещи. Даже глаголы речи, подбирая их исподволь, в течение многих веков, русские люди извлекали из сферы, в которой словесный корень обозначал простое сотрясение воздуха посредством шума: глаголать значит ‘болтать’, говорить — ‘бормотать’, речешь (тоже архаическая форма) — ‘выть, кричать’, и только, пожалуй, глагол сказать ‘раскрыть тайное’ имеет некоторый содержательный смысл и важен в передаче жизненных ситуаций (Скажи мне всю правду!) Все прочие абсолютно «пусты», если не освящены той мыслью, которая содержится в высказывании.
Вдобавок русская мысль никогда не есть суждение, потому что она избегает понятия истинности. Всегда говорится: верная мысль, правильная мысль, хорошая мысль, даже удачная мысль — так что каждую мысль можно оспорить, отвергнуть, заменить другою, может быть тоже верной, правильной и хорошей. А если так, следовательно — это уже не мысль, а дума. Ее точность проверяется соборно.
Нет, несправедливо было бы отрицать за русским сознанием неприятие мысли вообще. Мысль есть, она всегда присутствует, но не она в особой чести.
Мысль понимается как воплощенное подобие идеи, и потому, как всё на земле, она несовершенна. «Мысль изреченная есть ложь...»
Конечную цену имеет лишь триединство идеи, слова и вещи — это Логос, который соединяет всё.
Слово как воплощение мысли не допускает никаких излишеств в форме, избыточно риторических фраз и фигур, красивостей и длиннот. Красноречие прежде всего красота, а не красивость, внешнее подобие красоты. Лаконизм и содержательность — вот что важно, и ценится тот, кто скажет умно и кратко, отзываясь на слово Другого, а не в гулкую пустоту безлюдья. Монолог неприемлем, он оскорбляет (вводит в скорбь) остальных, лишенных слова.
Слово как воплощение мысли уже тем самым содержит в себе весь смысл. Поэтому русское высказывание — «дискурс» — есть профетическая фраза, призванная убедить, а вовсе не доказать. Странно слышать, что русский писатель Розанов «не доказывает, а ругается» только, как будто с его стороны это всего лишь «стилистический бунт против всяческой „нормализации“ — в жизни и в языке» [Синявский 1982: 277]. Дело, конечно, не в стиле, даже не в розановской манере писать. Андрей Синявский не заметил слов, сказанных тем же писателем: «нельзя ничего понять не „мое“. Вся русская философия основана на посылке, что «своим ничего не нужно доказывать» (Бердяев), что «если нужно что-то доказывать — доказывать ничего не надо» (Мережковский) и что вообще «доказательства не нужны для соборного сознания. Доказательства нужны лишь для тех, которые любят разное, у кого разные интуиции. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям», потому что — вот опять! — «доказанное — навязанное, неотвратимое, необходимое» (опять — Бердяев), а именно это и неприемлемо прежде всего.
Думать думу
Процесс мышления несвободен от чувств-ощущений и всегда связан с делом. Думая, мы чувствуем и действуем одновременно. Говорить отвлеченно о мышлении как об изолированном акте сознания столь же неверно, как и утверждать, будто русская мысль хаотично чувственна.
Сказанное и понятно, и хорошо известно, но приходится повторять, приводя в доказательство утверждения вроде следующих: «Думать, настоящим образом думать человек начинает только тогда, когда он убеждается, что ему нечего делать, что у него руки связаны. Оттого, вероятно, всякая глубокая мысль должна начинаться с отчаяния... Но думать— ведь значит махнуть рукой на логику; думать — значит жить новой жизнью, изменяться, постоянно жертвовать самыми дорогими и наиболее укоренившимися привычками, вкусами, привязанностями, притом не имея даже уверенности, что все эти жертвы будут хоть чем-то оплачены... Думающий человек есть прежде всего человек, потерявший равновесие в будничном, а не в трагическом смысле этого слова» [Шестов 1991: 113—114] — глубокая мысль рождается из глубины чувств. Выражено иронически, но подмечено точно: нормальный человек не думает, а живет.
На Западе «целевое мышление» есть форма мысли властного человека — этика императива; у русского человека «выразительное мышление» — этика импульса: мышление не извне согласно обстоятельствам, а изнутри, из души, причем «ценность выражения для него выше ценности познания... вечное можно только выразить» [Шубарт 2003: 100—101]. Западный человек отдает мысли предпочтение перед жизнью — русский наоборот. От западных привычек «думать, будто живешь» (cogito ergo sum) русское обыкновение думать отличается установкой на слово. Со слова начинается мысль, им же она и завершается, поскольку «это — барьер, поставленный самой нашей культурой: процедуру мышления не открывать, всю коммуникацию вести на дискретном уровне» словесных знаков [Налимов 1995: 29].
Существует множество наблюдений над разницей в мышлении представителей разных народов. Даже близкие по языку иногда отличаются друг от друга типом мышления, из чего можно заключить, что характер мышления зависит еще и от культурных традиций.
Сравнивая идиомы русского, белорусского и украинского языков, описывающие интеллектуальные действия человека [Морозова 1999], мы видим, что в русском языке сохраняется гипероним ум, тогда как в украинском и белорусском его заменяет розум-разум, ср. раскидывать умом — повертати розум — раскідаць разум; выжить из ума — выживать з розуму и т. д. Русский говорит о голове — украинец о мозге или думке: приходить в голову — впадати на думку и т. д.
Украинский и белорусский в своих литературных вариантах зависят от польского, а в нем rozum одновременно и ум, и разум, которые не различаются, как различаются они в русском языке. Основная идея здесь связана не с обозначением интеллектуального «аппарата» или процесса разумения, а понимания уже в готовом виде. Это вполне католическая идея ratio: думая — уже понимает! У русского противопоставление ума и разума сохраняется, «ум за разум» не зашел. Понимание-разумение достигается в процессе мышления, в действии ума, цельность ума не представлена его частью — разумом. Метонимические замены в русских идиомах возможны, например голова > мозг > ум (приходить в голову — приходить на ум; шевелить головой — шевелить мозгами), но это синонимы вторичного происхождения, равно как и новое представление о понимании типа доходить до сознания — белорус. дойти до разума. Все грубые выражения типа голова пухнет — голова кругом — мозги набекрень и подобные — вторичны. Их наличие особо подчеркивает, что славянское понимание мышления соотносится с головой и проходит в неисчезающей атмосфере чувственного восприятия мира. Попарное соотношение по принципу «внутреннее—внешнее» также характерно, ср.: голова—ум, голова—думка, розум—думка и т. д. «Процедуру мышления не открывать» — значит выражать этот процесс описательно — через внешнее, символически — через вещь.
Еще выразительнее отличия между русским и западноевропейскими языками [Митрофанова 1997]. Русские и английские обозначения выделяются по признакам:
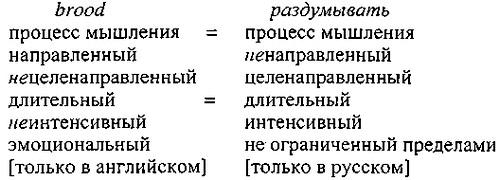
Эмоциональность английского ментального действия подчеркивает направленность процесса на субъекта — личность думает, тогда как в русском внимание обращено на сам процесс протекания ментального действия (объективация на действия, например через глагольную категорию вида). Думать — это рефлекс коллективного мышления, объективированного в речи, здесь нет индивидуума, как в случае мыслить. О русских вариантах исследовательница забывает, говоря о том, что в английском языке много вариантов выражения процесса с помощью наречий (лексическая вариативность типа thought deeply, reflected drowsily или специальные глаголы to think, to consider и др.). В русском действительно мало самостоятельных глаголов-вариантов, но множество оттенков действия передаются с помощью приставок (об-думывать, про-думывать, за-думывать и т. д.); для русской ментальности важно различать вещественность конкретных видов при идеальности общего корня-рода (гиперонима думать), хотя возможны и порассуждать, поразмыслить. В русском языке присутствует морфемный способ экспликации смысла и детализация оттенков, образно показывающих разнообразные виды действия. Личное присутствует и в русском высказывании, но выражено оно не напрямую, а косвенно, можно сказать — уклончиво. Это понятно в случае коллективного рассуждения, когда невозможно обидеть собеседника.
Обратим внимание на различие в маркировках по признакам самого действия. Русский думает напряженно и сосредоточенно (интенсивно), направленность присутствует у обоих, но у англичан не на цель, а как бы многовекторно, у русских же целенаправленно, потому что соборное мышление не «растекается мыслью». Если бы автор использовал для сравнений глагол мыслить, он вполне вероятно получил бы картину, близкую к английской, но предпочтение глагола думать верно: сегодня это основная форма выражения процесса мышления, и она отражает все ментальные свойства русского типа мышления.
Пренебрежение русским принципом удвоения сущностей в исследованиях современных культурологов — обычная вещь. Сравнивая с другими языками, в которых есть лишь одно слово для выражения концепта, исследователи забывают о русском двоении на вещное и вечное. Говоря о свободе — забывают о воле, говоря об истине — забывают о правде, говоря о сознании — забывают о совести... Так, А. П. Барчугов [1999] говорит о существующих в каждом языке «языке сознания» (обозначают объекты внешнего мира) и «языке самосознания» (мира внутреннего), но при этом исследует принцип знать, полностью забывая о принципе ведать; именно их противоположность и выделяет внешнее знание и внутреннее ведение. Концептуальное расхождение и в этом случае определяет сущность ментальности, которая сохраняется в подтексте всех производных, достаточно сравнить смысл современных слов типа совесть — сознание, ведьма — знаток: проведать ‘навестить’ — прознать, поведать — познать, поведание — познание и т. д. — глубинный и поверхностный слой одного и того же интеллектуального действия. Возможность разграничения двух уровней уже на лексическом материале способствует действию интуиции присутствия — исследователь и наблюдатель находятся как бы внутри изучаемой реальности, одновременно постигая ее сущность и описывая ее проявления. Русская герменевтика, (столь модная сегодня в западном мире герменевтика!) содержится в самом языке, и ментальность показывает движение мысли.
Думать можно не только с другим в диалоге и не только с самим собой; думание происходит со всеми вместе и сразу — в языке, сохранившем связь поколений, соборно.
Русская мысль
Сложность и многогранность проблемы заставляет нас возвращаться к теме, обдумывая ее с различных сторон и подкрепляя свои выводы авторитетом русских мыслителей и поэтов, которые тонко чувствовали эти проблемы, переживая их в самих себе.
Глубокую мысль Людвига Фейербаха [1974, 2: 254 и след.] тоже нельзя упустить: «Естественный, то есть чувственный, человек боится мысли как смерти» — он индивидуум больше, чем современный «интеллектуализированный» человек, потому что живет личным чувством, а не коллективной, объединяющей всех, мыслью — «коллективным чувством». Поскольку мышление вообще является принципом объективности в человеке, то и в качестве мыслящего существа «я» уже не отдельный инди-вид, а общее существо. Русские мыслители постоянно рефлексировали по этому поводу, и особенно если при этом «мыслили» на французском языке: «Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое» [Чаадаев 1914: 87]. Вот почему мысль отдельного человека вовсе не мысль, а скорее со-мнение. Родовое выше инди-вид-уального, потому что «мысль приходит в молчании и тишине», но затем, «дробясь еще сильнее, Мысль переходит к умам практическим (техника, дипломатия, политика и т. п.). И так, все мельчая и мельчая, Мысль становится хитростью» [Пришвин 1986: 439]. Этого не понимают теперь, но понимали в Древней Руси. Личная мысль, не становясь Мыслью, — всего лишь замысел, не свободный от до-мыслов и греховного помысла, но уж если мышление — дело коллективное, то и «общая мысль» должна представать как дума. Само по себе состояние мысли — не «замыслю», а — «задумаемся, брат».
Человек задумался — хорошо, человек замышляет — неладно.
Мысль мечется в хаотическом движении, юрко проникая в голову, подобно мышке. В древнерусских текстах встречается незаметная взгляду подмена слова мысль словом мышь (мысь в северном произношении); иногда это считают фонетическим диалектизмом, иногда — метафорой (как в списке «Слова о полку Игореве», известном нам).
Наоборот, дума системно организована и в конечном результате лишена эмоциональных подтекстов, хотя и выработана, может быть, в сильном духовном напряжении.
Мысль обладает и другой особенностью: «Наклонность к априорному мышлению находится в обратном отношении к величине запаса данных, каким располагает мысль: чем меньше этот запас, тем сильнее априорность» [Потебня 1976: 446]. Подобный «запас» может быть очень малым, да чаще так и бывает. Возможность поступления ошибочно-обманной мысли возрастает. Дума своим диалоговым действием пополняет объемы знания (опыт, прецеденты, традиция), и только тогда содержание мысли обретает точность понятия, пойманнного мыслью и тем самым понятого. Учение о диалоге как форме коллективного мышления не случайно явилось в России.
Третий «порок» раскрепощенной личной «мысли» для русской ментальности немаловажен. Дело в том, что «мысль не может породить веру», «мысль первична только в логике» [Ильин 6, 2: 426]. Уже для Нила Сорского в XV в. мысленное делание есть диалог с Богом, это высший предел всякого познания на основе интуиции. Именно в этом пункте (единение в слове через Бога) образуется то единство бытия-знания, которое отличает русскую «мысль» от западной (там бытие и знание разведены в известной формуле Декарта). «Французские слова заряжены мыслию или, по крайней мере, блеском, похожим на мысль», — замечал Петр Вяземский в своих записных книжках, а Лев Толстой добавлял, что по-французски говорить — расхожими мыслями сыпать, а вот ежели задуматься надо, тут только русский язык поможет. Французское слово pensee — субстантивированное причастие от латинского слова со значением ‘взвешивать’ > ‘оценивать’, и до XVII в. обозначало мысль, соединенную с чувством; после этого только «чистая мысль». Это то же, что и русская мысль, но не размыто-неопределенная (поскольку поддерживается «структурированным» дума), а внутренне структурированная [Голованивская 1997: 193]. Совершенно верно замечено, что в русском сознании мысль и слово, ее выражающее, как бы разведены из-за несводимого вместе византийского и западноевропейского (позднего) влияния, но образы в словах мысль и pensee общие: вода, осязаемость, опора, хотя русский тип сознания скорее интуитивен, а французский рационален [Там же: 222]. Тут небольшая поправка: взвешенность французской мысли и стихийная мощь порождающей новое (знание) русской, выраженные в словесном образе корней, все-таки различаются. Образы — различные, но понятия во многом совпадают (а это результат влияния в XVIII в.). Расхождения в символическом компоненте словесного значения также существенны, они определяются различием в культурной истории, связанной с различием в культе.
«Если мысль должна действительно родиться, она должна зреть в тишине, пока не потребует слова. Греческие философы знали различие между словом „изреченным“ (т. е. произнесенным) и „существующим внутри“. Последнее не имеет ни звука, ни формы. Это скорее внутренний, духовный заряд. Он дремлет под сводами душевного царства теней; но оно пробудится. Это уже мысль, но еще не слово; но оно станет словом, оставаясь мыслью сердца, воплощением чувства, идеей воли. Тогда и только тогда оно станет истинным словом, которое приходит в мир как реальность внутреннего; лишь высказанное, но уже деяние; подобно дитю рожденное, но уже созревшее; простое, но насыщенное смыслом настолько, что может стать роковым; не существующее само по себе, но проявляющее невидимую, возможно, божественную власть» [Ильин 3: 158]. О сущности концепта — смысла, не обретшего формы, — и его явлении «внутренним духом», пожалуй, лучше не скажешь. В этом изложении представлены все характеристики действия русской мысли в ее традиционном виде.
Из данного определения можно идти в разные стороны, расширяя его присущим ему скрытым, таинственным смыслом символа.
Например.
«Такого рода отчет в содержании своих понятий получает мысль, когда, не принимая его в том виде, как оно ей непосредственно дано, разлагает это содержание на его последние элементы и затем снова из них сознательно построяет. Из этого двоякого процесса она убеждается, что при данных элементах и условиях построения не могло получиться иного содержания целого понятия, как такое-то...» [Астафьев 2000: 419]. «Построение целого понятия» опирается на проверку символа образом предмета и самим предметом мысли. Отчуждение от природы естественной к культуре помысленной с выработкой нового содержания (понятия) в процессе идеации, т. е. осмысления сущностных признаков предмета. В этом действии без интуиции веры не обойтись, и Петр Астафьев указывает почему: только вера дает уверенность [Там же: 428]. «Отсюда и необходимость принимать некоторые недоказуемые начала и положения в основании всякой науки, принимать их непосредственно, на веру, хотя бы и только условно, только для того, чтобы исследование и знание в данной области было возможно. Эта необходимость недоказуемых далее оснований всякой цепи доказательств, положительных начал всякого рационального знания, признаваемая еще с Аристотеля (и ранее), и легла в основу противоположения веры... знанию» [Там же: 422].
Но «опасность» новой мысли, не удосто-вер-енной общим про-дум-ывани-ем, в другом. «Если вы хотите погубить новую мысль — постарайтесь ей дать наивозможно широкое распространение. Люди начнут вдумываться в нее, примерять ее к своим текущим нуждам, истолковывать, делать из нее выводы — словом, втиснут ее в свой готовый логический аппарат или, точнее, завалят ее сором собственных привычных, понятных мыслей, и она станет такой же мертвой, как и все, что порождается логикой. Может быть, этим объясняется стремление философов облекать свои мысли в такую форму, которая затрудняет доступ к ним большой публике» [Шестов 1911: 35]. Действительно, как замечал Одоевский, «часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается самым посредственным».
Аналитичность мысли вызывает к ней особое недоверие синтетически ориентированного русского сознания: «Мысль... в первых своих приемах всегда неизбежно имеет разлагающее свойство: самая этимология слов рас-суждатъ, раз-бирать показывает, что она необходимо начинается с анализа, с разъятия предмета на части. К этому надобно прибавить еще другую характеристическую черту: мысль всегда, непременно является в бесчисленных формах, высказывающих о предмете или различные, или противоположные суждения, — истину или ложь, всего чаще истину с примесью лжи или ложь с примесью истины. Ложь составляет такую же необходимую, органическую принадлежность мысли, как истина, и чем разнообразнее и полнее выражается и та и другая, тем больше, лучше выясняется предмет» [Кавелин 1859, 3: 14].
Петр Лавров вообще полагал, что история мысли есть элемент истории данной цивилизации и с самого начала опирается на историю культуры. Сказано в 1870 г., когда история русской мысли только набирала обороты и нужно было решить, какая именно культура должна стать основой русской мысли. При этом история цивилизации примет проявления истории мысли по мере их влияния, а не за глубину и значимость. Это верная мысль, но и опасная своей правдой. В истории русской цивилизации влиятельность часто достигается самыми подлыми средствами. А Иван Киреевский [1911: 151—152] объяснил, что получается, когда в процессе «формирования мысли» происходит отрыв от народной культуры: «Если мы оторвемся от народных убеждений, то нам не помешают тогда никакие особенные понятия, никакой определенный образ мыслей, никакие заветные пристрастия, никакие интересы, никакие обычные правила», но тогда мы не сможем влиять на чужие культуры и не получим ни сочувствия, ни общего для всех языка. «Уничтожить особенность умственной жизни народной так же невозможно, как невозможно уничтожить его историю. Заменить литературными понятиями коренные убеждения народа так же легко, как отвлеченною мыслию переменить кости развившегося организма...» «Ибо что такое народ, если не совокупность убеждений, более или менее развитых в его нравах, в его обычаях, в его языке, в его понятиях сердечных и умственных, в его религиозных, общественных и личных отношениях, одним словом, во всей полноте его жизни?»
Риторический вопрос.
Мысль и дело
Идея предмета уже известна — поэтому важно движение. Мысль и дело т. е. со-бытие, которое само является как конкретная вещь, пробуждая идею, и тогда идея, как род, объединяет виды вещей. Видимо, такое движение мысли имеют в виду, когда говорят о «господстве пассивного чувства» русского человека (Щапов), его инерционности (Касьянова) и т. д. В западных языках глагол передает само действие — процесс идет. Европейца изумляет русская речь: почему у вас действие всё время только начинается (процесс пошел), каждый раз как бы снова, развиваясь, не заканчивается? Выражаясь словами того же оратора: «Важно на?чать, потом углу?бить...» А вот кончать будут другие. Но в нашей речи именно со-бытие пробуждает к деятельности, оно соединяет идею и вещь — в дело. Это — дело, а точнее Дело — и есть то главное, что соединяет векторы слова: «соединение двух разумов в общем деле» [Федоров 1995: 95]. «Слова в конце концов больше связывают и закрепляют, чем дела», — утверждал Сергей Аскольдов в знаменитом сборнике «Из глубины». И таково общее убеждение русского сознания.
Поэтому в русском сознании мысль и расценивается как дело, за мысли можно судить так же, как и за совершенное дело. Опредмечивание мысли в слове стало формальным основанием для борьбы с ересями, что трагически отозвалось в событиях нашей истории. Для каждого русского философа мышление предстает как своего рода «проект дела», следовательно — уже реального дела или, говоря точнее, «общего дела» [Федоров 1982: 529, 540 и след.]. А дело это — природное: «В природе русской мне больше всего дороги разливы рек, в народе русском — его подъемы к общему делу» [Пришвин 1994: 56].
«Вещь» в общем смысле поддается осмыслению чувством, с которого и начинается движение самого со-вместного и у-местного со-бытия. Психолог верно замечает, что важным оказывается не результат, а чистота и ясность замысла — «схемы действия» («надо разобраться»); оценивается не исполнение, а намерение («хотели как лучше») [Касьянова 1994: 225]. Мысль настолько сложное дело, что уже и сама по себе есть дело. Но только если это творческая мысль, т. е. начатое на деле движение к идее.
Однако здесь снова возникает искажающая ментальную перспективу чужеродная помеха. «Когда практические люди Запада, — напоминают нам, — говорят, что Советский Союз — страна слов, а не дела, мы сталкиваемся с типичной классификационной (!) ошибкой. Так же неверно упрекать слона в том, что он такой большой, а не летает. В советском обществе слово — и есть дело» [Вайль, Генис 1996: 328—329]. Не «классификационная», а логическая ошибка авторов основана на том, что в своей книге они описывают лишь одну часть общества, а это, как можно понять из текста, даже не русский, а среднестатистический «российский интеллигент» [Там же: 305]. Исходя из слова (что верно), настоящий носитель русской ментальности вовсе не стоит на слове, а вот именно опираясь на смысл слова, пытается увязать заложенную в нем от века идею (содержание понятия) с предметной реальностью (объем понятия), с тем чтобы приступить к делу-вещи как идее или к идее как к вещи-делу. Ссылка на великую русскую литературу как на свидетельство неиссякаемого «словоизвержения» тоже не доказательство; не раз показано, насколько «точно» литература отражает русскую ментальность, и особенно современная русскоязычная литература. Привожу это высказывание как образец одной из возможных «правд», но никак не соответствие истине.
Дело — соединение мысли с вещью, явленное в слове. Так и духовность — это не рассуждение о душе, а практическое дело по претворению в жизнь идеала, имеющего духовный характер [Платонов 1994: 136]. Таков уже древнерусский «Домострой», призывавший к делу, исполняемому в реально-вещном мире на основе христианской идеи. «Домострой» впервые в нашей писаной истории аналитически представил все три ипостаси жизни, идущие от слова-Логоса: идею-идеал, материю-вещь и связывающую их нить полнокровного дела.
Все это отражает синкретизм восприятия внешнего мира и представления его как мира феноменального. Чувственный синкретизм восприятия основан на отмеченном уже единстве прагматического и мистического отношения к действительности. «Наблюдая особенности нашего национального характера, легко заметить, что чисто русский даровитый человек отличается именно крайним недоверием к силам и средствам человеческого ума вообще и своего собственного в частности, а также глубоким презрением к отвлеченным, умозрительным теориям, ко всему, что не имеет явного применения к нравственной или материальной жизни. Эта особенность заставляет русские умы держаться по преимуществу двух точек зрения: крайнего скептицизма и крайнего мистицизма» — так эту противоположность между вещным и идеальным понимал Владимир Соловьев. Нигилизм и мистицизм предстают как крайности в восприятии несоединенных векторов Логоса.
В принципе, ничего нельзя составить из различных систем, «как вообще нельзя составить ничего живого. Живое рождается только из жизни» [Киреевский 1911: 172].
Живой — действующей — признается целостная вещь, а не элементы отношений, порождающие такую вещь в сознании. Кстати сказать, именно из этой основополагающей идеи исходит и русское понимание системности. Не переосмысленная на европейский манер система как относительность чистых отношений (идея иудейская, по авторитетному мнению Осипа Мандельштама), но живое целое, органическое единство. Дело в том, что только исходя из целостности вещи мы можем полагать, что она открывается «как бы сама собою», не требует объяснений с помощью специального логического аппарата. Что «целое первоначальнее элементов», что «элементы способны существовать и возникать только в системе целого» — это основные положения русской гносеологии [Лосский 1917: 7], основанной, между прочим, и на языковой интуиции.
Также и цельность как принцип составляет главное достоинство русского ума и характера. Отсюда проистекает не раз отмеченная философами принципиальная системность мышления как русская традиция, т. е. «стремление к построению широких обобщающих конструкций», примеры которых приводятся: Лобачевский и Менделеев [Моисеев 1998: 38]. Это — глубина системности, а не формальность системы.
Для русского сознания первична не множественность, но единичность цельного. Единственное число ни в спряжении, ни в склонении не воспринимается как числовая мера, оно абсолютно и в принципе многозначно, т. е. может обозначать и собирательное множество (ср. вещь как один предмет и вещь как всякая вообще вещь).
Выйдя из языка, мысль опять возвращается в его глубины.
Мысль направлена словом.
Познание всегда идет от целого к его частям. Если мы идем от части (т. е. момента целого), мы забываем о целом и низводим целое на степень внешней системы элементов: это удобно для формального познания, но нарушает логику живого, т. е. искажает реальную картину. Эти мысли Льва Карсавина очень важны: системами дорожат только те, кто не видит живого, и тогда «жалкая оболочка системы» заменяет им живое целое [Карсавин 1992: 163—164]. В высшей степени точно выражает отношение к позитивистским системам ироническое замечание Ивана Тургенева: «Системы похожи на ящерицу: только, кажется, ты поймал ее за хвост — ан уж он у тебя в руке, а у нее новый вырос!»
Традиция средневекового описания целого — через части — всегда оправдана прагматически. Д. С. Лихачев говорит о «панорамном зрении» средневекового автора «Слова о Русской земле»: единство и целостность Русской земли описываются через ее части, но все части имеют смысл только как ее части.
Земля в смысле ‘государство’ показана как земля ‘твердь’ с ее лугами, реками, полями... В принципе, и любое произведение русского искусства обладает тем же эффектом синкретичной целостности, его невозможно распылить на фрагменты без риска утратить целое; в этом отношении аналитичность модерна неприемлема так же, как невозможно и понимание системы в виде набора различительных признаков. Более того, и русскую философию постоянно упрекают в антисистематической форме самой рефлексии, что якобы «мало способствовало выработке собственно философского языка» [Барабанов 1992: 149]. «Русский философский дискурс» действительно отличается от западного — но от того он не перестает быть философским. Систематическое изложение есть изложение нормативное, то есть уже и предписывающее. Русская же философская традиция долго понимала систему только как «систему мнений» о чем-то и по поводу чего-то. Совершенно внешнюю сторону дела, результат анализа, а не самый объект такого анализа. Однако не секрет: всякое мнение внушает со-мнение.
Сходства и подобия
Напротив, для русской гносеологии релевантны только сходства и подобия, т. е. не изолированные и самодостаточные элементы различия, а те элементы структуры как системы, которые соединяют нечто в слитное целое, не разрывают на части живое тело предмета. «Подобное познается подобным. Внутреннее родство субъекта познания и объекта познания — обязательное условие истинного познания» [Бердяев 1985: 253]. Дифференциальные, различительные признаки несущественны, поскольку их нет в «вещи», они привнесены извне, сознанием, феноменально ее представляя, но сами по себе они не составляют природы объекта, который воссоздается субъектом в рефлексии. Так можно сформулировать сугубо нравственное запрещение установки на «разъятие живого».
Точно так же и развитие системы ведет не к кумулятивному накоплению признаков (свойств, отношений и прочего), как понимает дело позитивист, а к перемаркировке наличных элементов целого в границах данной системы — преображение цельности и единого, основанное на том, что различные степени ценности таких элементов изначально существовали в самом целом. Изменение есть преображение, потому и воспринимается слиянно с нравственной оценкой этого изменения.
Таким образом, для синкретичности русского сознания в действии синтезирующего его языка более подходит модель синтеза — в противоположность аналитической процедуре выявления различительных признаков, частиц, элементов целого. Движение мысли от общего к частям. Неприятие анализа («трупоразъятья позитивистов», по слову Герцена) определяется несколькими причинами, из которых важнейшая, как кажется, опять-таки нравственная. «Только живой душой понимаются живые истины» — формулирует ее Герцен. Познание ценно лишь «в совершенно внутреннем свободном соединении, или синтезе» [Соловьев 1988, 2: 174] (ср.: [Там же: 177]). «Всеобщий синтез» Николая Федорова зиждется на том же идеальном основании.
Александр Потебня любил повторять в своих лекциях одну справедливую мысль: язык синтетического строя, каким является и русский в числе славянских, не может эффективно изучаться аналитически, равно как и с помощью такого языка опасно классифицировать «вещи» — всегда есть риск впасть в типичную ошибку «умножения объектов» на пустом месте.
Остается только одно, и это тоже заявлено: диалектика развития важнее идеи материальности мира; материальность вообще двузначна — не обязательно это «материя» или «материал» природы. Феноменальное столь же материально, как всякая вообще «вещь». Диалектическое восприятие жизни выступает в нескольких своих ипостасях, но главное в том, что признаётся: весь мир — борьба, состязание, спор, всё есть действие, всё — деяние, всё — создает действительность. Отсюда, между прочим, особая роль глаголов в русской речи, что постоянно подчеркивают писатели. При этом всё изменяется в частностях, присутствует в вариантах (в границах своей формы), но остается незыблемым по существу как инвариант. Ведь оно, это всё, существует не только само по себе как законченная вещь, оно еще и обвито аурой мысли о ней, преисполнено той идеи, которая и воплощает в мысли сам принцип инвариантности. В этой слиянности вещного варианта и сущностного инварианта можно найти объяснение многим, иначе непонятным, русским пристрастиям.
А истина — инвариант частных правд, истина — идея Правды.
Как всегда в таких случаях, недоброжелательный в отношении к русскому реализму номиналист немедленно совершит подстановку терминов и на их основе, как говорится, выворотит полушубок мехом наружу, как делают это шутники в новогоднюю ночь, пугая детей бесами. Так и здесь. Нам говорят, что в области социоэкономики у русских господствует иждивенчески-патерналистская идея, а в области организационно-политической основа всего — холуйски-паханский комплекс: «нам бы хорошего и сильного пахана!» [Тэневик 1996: 152]. Термин пахан в данном случае родовой, он заключает виды: это и император, и генсек, и президент, которым именно и «нужна холуйская среда». Как бы идея «царя» в новых социальных условиях. Поразительна всё же эта местечковая злость, направленная против русских идеалов; даже навязанные извне идеи ассоциируются с русскими идеалами и приписываются целой нации. К сведению теневых мыслителей: именно авторитетов-то русская ментальность и не приемлет. Для русского человека они не имеют никакой цены, они презираются. В уголовной среде, в которой нам подыскивают параллели, авторитеты имеются, есть и паханы, но ведь состав «русской мафии» всем хорошо известен. Российский отнюдь не русский.
Интуиция и опыт
«Мир постигаем лишь мифологически» — интуицией. При этом «нужно сказать, что область подсознательного в душе русского человека занимает исключительное место»; неожиданным извержением мыслей, поступков, действий «он чаще всего не знает, чего он хочет, куда его тянет, отчего ему грустно или весело, — мы не можем определить направления (своего) хотения» [Вышеславцев 1995: 113]. Как и все такого рода ностальгические определения русского характера, это основано на русской сказке («сказка — это наши сны»): «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Однако безмерность русских желаний, определяемую бескрайностью российских просторов, это высказывание передает точно.
Какую-то рыхлую неопределенность в выражении мысли отмечают критики русского менталитета. Русской мысли присуща иррациональность, говорит Анна Вежбицка, потому что в ней начисто отсутствует каузация; отсюда и выходит надежда на русский авось и прочие игралища судьбы. Мы еще вернемся к каузации и к авосю, столь любезным западному интеллектуалу, сейчас нашей неупорядоченной мыслью зацепимся за «иррациональность».
Да, говорит и Георгий Федотов, у нас «в познании, разумеется, — иррационализм и вера в интуицию» [Федотов 1981: 94].
Да, подтверждает и Николай Лосский, у нас развит именно интуитивизм, но как «способность к высшим формам опыта (не в каузально-чувственном смысле)».
Не следует пугаться страшных терминов. Все три типа интуиции: чувственной, интеллектуальной и мистической — в одинаковой мере служат человеческой мысли, обогащая ее и облагораживая своим устремлением к идеалу. Это — всем известные инстинкт, интуиция и инспирация (вдохновение), не раз описанные петербургскими философами [Лапшин 1999: 211 и след.]. Или, как предпочитал говорить Николай Лосский, интуиция чувственная, интеллектуальная и мистическая. Подсознательное и сверхсознательное в равной мере присущи всем, но особенно, быть может, как раз тонко чувствующим людям. Генная память поколений служит современным людям, потому что «мы ничего бы не знали. Если бы всё не предчувствовали» [Розанов 2000: 24].
Для Семена Франка несомненно, что «в основе русского познания лежит интуиция», согласно которой что-либо узнать — значит приобщиться к этому посредством осознания и самопереживания: познание и жизнь в высшем понимании — одно и то же. «Умственная трезвость и логическая ясность» интуитивного опыта русских достигнута посредством православной аскетики, полагает Франк, что и отличает такой опыт от европейского эмпиризма и рационалистического опыта; у нас нет ни субъективизма, ни формализма, свойственного рационализму, особенно французскому. У русских логическая взаимосвязь и очевидность тоже присутствуют в познании, но они характеризуют предмет только внешне, вещно, а не сущностно. «Русская гносеология интуитивна и антирационалистична, но не иррационалистична», мысль русского в типичном выражении «остра, проницательна и трезва, полна... здравого смысла, в простом „прозаическом“ смысле правдива и метка, обладает всеми качествами добросовестно-строгого, никакими предложениями не замутненного эмпирического познания» [Франк 1996: 25, 253]. Вообще же, по мнению скептика Солоневича, «спор между разумом и инстинктом — это выдуманный спор», поскольку разум и есть соединенный с сердцем и совестью рассудок (та же мысль у Ивана Ильина, ср.: [Ильин 3: 423—424]).
«Непосредственной данности нет, — утверждал Андрей Белый, а есть интуиция: интуиция — слово, создавшее мир». Это не научное утверждение. Это подсознание русской ментальности. Здесь смещены цели. Интуитивное познание русских направлено не на искание абстрактной истины, а на нравственные характеристики добра и зла — это не гносеология, а этика [Марцинковская 1994: 19]
В русском сознании, замечал по этому поводу Семен Франк [1926: 8—11], причудливо сочетались мистический интуитивизм веры (не только веры в Бога — вообще веры) как источник глубинно сущностного ведения, и чувственное «живознание». Русская гносеология, полагал философ, есть соединение чувственной очевидности, которая служит ключом к разумению (духовное ведь нужно изъяснить через доступное понятию вещное), и совершенной очевидности мистического бытия. Это, конечно, не английский эмпиризм, а именно «русская эмпиристичность». В основе русской ментальности лежит нечто, что Франк пытался передать немецким словом Lebenserfahrung — в конечном счете, критерий истины именно в этом. Через живой человеческий дух познается духовное.
Норма опыта и идеал идеи сталкиваются в момент познания, подобно тому как сталкиваются в нем интуитивное и рассудочное. Но имеются и различия.
«Религиозно-нравственные идеи нельзя адекватно выразить в нормах и в „кодексе нравственности“... Последнее объясняется смешением ее с правом», а только право нормативно [Карсавин 1995: 144]. Законченность форм приобретается в установлении норм, а это уже — ограничение свободы. Нравственность — зона свободы, свободы воли. Умственное состояние, об(в)язанное рассудочными нормами, закостеневает в видимости свободы, тогда как интуитивный порыв не препятствует мысли в открытии нового. Вот почему, по мнению Бердяева, наше умственное состояние и не приемлет классицизма, оно враждебно классицизму, но одухотворено романтическим порывом («и тем привлекательно»). Постоянное изменение форм в порыве творчества со стороны кажется отсутствием формы, но это сознательная неприемлемость законченных форм, которые способны остановить бег творчества. Форма — уже вещь, а законченность идеи в вещи останавливает процесс творения. Да и то сказать: «Почему статуи холодны? Потому, что тут законченность; где законченность, там холодность, и нет действия», — заметил мудрец Пришвин. Оформленное до конца — умирает.
С точки зрения реализации идеи возникает проблема техники и творчества. Технология действительно связана с рациональным, но творчество всегда соотносится с интуицией. Хорошо Г. Л. Тульчинский показал это на перерождении научного метода в технологию раскроя художественной ткани текста: «Благодаря ОПОЯЗ’у (Общество по изучению языка, действовавшее у нас в 1930-е годы. — В. К.) были обнажены корни рационалистических притязаний техне на творчество. После него творчество уже не могло идти этим путем самозванства. Идея сделанности выпала в экологическую нишу структурного и семиотического анализа, заняв единственно возможное место научной аналитики. Творчество же не сводимо к рациональной сделанности», видимая научность этих методов всего лишь паллиатив научного метода «в мифократическом идеологизированном обществе» [Тульчинский 1996: 201].
Интуиция на основе образа порождает понятие, каждый раз необходимое именно в данный момент познания.
Сущность познается не через саму вещь и не через опыт; следовательно, говорил Петр Астафьев, без помощи логического. Феноменальное чувственное знание направлено на вещь — но оно никогда не доходит до «мистического ноуменального» [Астафьев 2000: 418, 421]. Из рассуждений философа следует, что имя существительное как вещь — дано, а имя прилагательное или глагол как признаки выделения вида — заданы, и потому в сочетаниях типа «белый дом» или «дом белел» совмещены содержание данного конкретного понятия и его объем — аналитически; их соединение в речи и составляет внутреннее знание, т. е. мудрость [Там же: 424].
Вообще говоря, «откуда взялась уверенность, что дискурсивное мышление более общеобязательно, чем интуиция? От понижения уровня духовного общения до минимума? Дискурсивное мышление есть царство середины, никогда не начало и не конец. Концы и начала всегда взяты в интуиции», тогда как дискурс представлен формально автоматическим [Бердяев 1985: 64]. Высказываний такого рода множество в традиции русского философствования. «Основная же ошибка „рационалистов“ в том, что они искусственно проводят черту между инстинктом, навыком и разумом и потом рассуждают, исходя из этой ограды, вовсе не существующей в природе вещей» [Пришвин 1986: 304].
Интуиция слова
Русская ментальность ближайшим образом отражается в словах. Именно слова быстрее всего отзываются на изменения, происходящие в жизни и в сознании человека. Но они же и сохраняют в своем образном подтексте старинные свои смыслы — образные в своей «внутренней форме» и символические в устойчивых сочетаниях слов, данных с типичным признаком определения. «Англичане и особенно американцы не понимают речи собеседника при малейшей ошибке произношения, потому что внимание их сосредоточено на внешней стороне речи, на звуках ее. Наоборот, русский человек, обыкновенно, понимает собеседника даже и при значительных недостатках произношения; объясняется это тем, что он направляет свое внимание сразу на внутреннюю сторону речи, на смысл ее, непосредственно, т. е. интуитивно-улавливаемый им» [Лосский 1991: 258].
Отсюда непонятная иностранцу традиция непрекращающегося процесса «освежения внутреннего образа» слова, т. е. возвращение к образному первосмыслу, заложенному в словесном корне искони, но по какой-то причине утраченному в обиходной речи. То ли из-за утраты производящего корня, который «наводил» сознание на определенный смысл, то ли по причине искажения самой формы (изменилось произношение слова).
Особенно это относится к словам эмоционального содержания, которые выражают не только понятие, но и отношение к нему — в связи с оценкой того, о чем речь. Без восстановления «нутряного» образа тут не обойтись никак.
В последовательной замене по существу однозначных форм кажется—выглядит—смотрится точно передано отношение говорящего к тому, что является перед ним с показной стороны. Образ-подтекст (ментальная доминанта) все время сохраняется, но с каждой новой формой происходит эмоциональное усиление в выражении качества и вместе с тем удаление от объекта. Две последние формы — «культурного» происхождения, соответственно из немецкого и английского языков. То, что просто кажется, и в действительности может быть таковым (во что надо верить); то, что выглядит, отчасти уже притворяется, скрывая свою сущность, хотя не исключено, что оно и впрямь таково; но тому, что в наши времена просто «смотрится», доверять не следует, оно обманчиво и вызывает обоснованные подозрения в ложности. Отчуждение личности от природного мира подлинности не есть черта русской ментальности, она привнесена сюда изломом заимствованных форм и речевых клише.
Древняя форма обаятельный последовательно заменяется равнозначными ей словами очаровательный (чарует) и обворожительный (завораживает). И здесь тоже внутренний образ первосмысла сохраняется, в переборе определений и на их фоне он даже усиливает эмоциональную энергию выражения. Обаятельный заколдовывает словом (баяти — баян), очаровательный чарует внешним видом, обворожительный — делом, манерами, поведением. Понятия другие, но образ всё тот же, да и смысл предыдущих близкозначных слов сохраняется, они не исчезли, фактом своей синонимической сопричастности они поддерживают смысл каждого нового в этом ряду слова, оттеняя его потаенные смыслы.
«Собирание ума» — в голове и «собирание души» — в сердце двунаправленным движением создает духовное пространство русского со-знания. Не случайно со времен Григория Сковороды, а может быть, и гораздо раньше, когда на Руси постигли, что образами Логоса являются разум и совесть (Климент Александрийский), русские философы настаивают на единстве и равноценности разума и интуиции. Николай Михайловский утверждал, что народники — не враги народу, «ибо сердце и разум наш с ним. Сердце и разум — заметьте это сочетание» [Михайловский 1900: 938]. А писатель ту же мысль выразил образно:
«Можно усердно молиться годами Господу Богу и просить у него пищи на каждый день и сделаться очень хорошим человеком, но в то же время знать о своей планете только, что она есть блин.
И можно сосчитать звезды и знать подробности движения светил, но не уметь у Бога попросить себе хлеба: чувство и разум» [Пришвин 1994: 301].
«Первый раз в жизни спросил себя определенно и прямо, в чем же разница между нами и ими? И ответил: в формальности души и существования у них и в эссенциальности души и существования у нас» [Розанов 1998: 149]. И это важно. Стремление обратить русских от интуитивного к формально-рассудочному есть лукавая попытка поставить русских вровень с собою. Те, которые лишены такой интуиции, вынуждены прибегать к помощи рассудка, сепарируя мысль и язык, пытаясь проникнуть в тайны сущности извне языка.
Образ и символ
У русских философов, говорит Барабанов [1992: 149], не понятие, а метафора и символ суть основные аргументы.
Верно. И более того. Русские философы, обобщая интеллектуальные традиции русского сознания, никогда не ориентированы на рассудочное понятие. Основным героем нашей философии и культуры действительно является символ — образное понятие. Русскую философию не случайно называли «философией образа».
Конкретное и образное русский менталитет предпочитает умственному и рационалистическому. Именно потому, что оно образное, в нем нет расклассифицированной единичности. Толкование конкретного как материально единичного вытекает из номиналистического взгляда эмпирика и полностью соответствует современному уровню научного позитивизма. Менталитет русского — не ratio, но и не односторонний сенсуализм, хотя некоторые русские историки (например, Щапов) и пытались уверить в склонности русского человека к чувственному восприятию мира («всё хочет пощупать»; как раньше об Аввакуме («всё хочет понюхать»), а позже о Розанове («всё хочет полизать»). Никакого восхождения от конкретного к абстрактному и наоборот подобная форма познания не предполагает, поскольку для нее абстрактное воплощено в конкретном — в единосущности с ним, присутствует в конкретном, которое само по себе есть всего лишь знак отвлеченного и всеобщего. «Односторонняя рассудочность западной линии развития носит в себе не общественный дух, но дух личной отделенности, связываемой узлами частных интересов и партий... забывавши о жизни целого государства», которому иногда просто необходимо подчинить личное, несмотря ни на что; вот почему у русских «это стремление любви, а не выгоды» [Киреевский 1911: 123]. Волевое усилие к творчеству направлено не интересами выгоды, но необходимостью любви.
Андрей Болотов в своих суждениях сознательно отказывается от строгости логического понятия, в конце XVIII в. уже известного русским интеллектуалам, по традиции он опирается на образное понятие (символ), с помощью которого возможно не просто дать знание, но и соз-дать счастье — действуя на ум через сердце [Артемьева 1996: 90, 96]. О том же говорит и современник Болотова — Григорий Сковорода. Понятийное знание пусто, оно не приносит счастья соучастия — в нем отсутствует этическая составляющая по-знания.
В таком случае понятно и предпочтение, которое оказывает русский ум символу. Такое предпочтение основано не только на силе традиции, ведь и сама традиция сложилась на неких исходных разумных основаниях. Основания эти — позиция реалиста в русском смысле слова. Русского неореализма.
«Форма всеобщности неосуществима вне слова, которое есть „символ“, т. е. знак, совмещающий в себе наличную единичность с его всеобщим значением» — эти слова Владимира Соловьева мы помним. Слово удерживает исчезающее. «Символизирующее сознание» эпохи Средневековья — высшее проявление действий такого типа символа посредством символов-образов, заменяющих логическую отточенность и мертвенность понятия. Современный человек далеко отошел от подобной формы мышления, но у русских простых людей осталось наивное убеждение в том, что Творец и тварь в каком-то смысле едины, что Создатель живет в своем создании, а это и определяет формы собственных его, человека, сознания и творческой деятельности. Посредством символов происходит удвоение опыта трудовой деятельности, потому что делают уже вмышленное — символ становится вещью наравне с другими вещами, произведенными человеком по велению идеи. Средневековый принцип познания — «принцип двойного отражения» (одно познается посредством другого, идея — через вещь) — привел к построению мира, в котором и нет ничего, помимо символов. Мир символов, созданных человеком в творении его, есть его культура. Таково практическое исполнение завета: мысль есть дело.
Человек сам постигает суть своего Дела, и никто ему в том не помощник. Символы заданы — слово дано, и... и примерно так: «Вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество — какая между ними разница? Ответ: родина — место, где мы родились, отечество — родина, мною осознанная... без знания своей родины она никогда не может быть для нас отечеством» [Пришвин 1994: 300]. Мы исходим из слова, с тем чтобы через него понять символ.
Образность символа, данного как синкрета, предопределяет и предпочтения в характере мышления. Образ — это символ, следовательно, из мышления устраняется элемент формализации, ведь только в понятийном мышлении «формальная сторона везде преобладает над сущностью мысли» (Петр Лавров). Свои опасности возникают и при таком, одностороннем, ходе мысли. Если на Западе развивается схоластика, в православии — догматизм. Вариантность форм не покрывает сложности и разнообразия содержания, и формы множатся, не всегда попадая в светлое поле сознания. Образ, расшифровывающий символ, у каждого свой, и в этом, быть может, единственная причина разногласий, возникающих при обсуждении важных дел. Каждый по-своему понимает, что такое «демократия», «свобода» или «рынок».
Символизм познания, по существу, остается методом религиозного мышления, как его определял Лев Карсавин на примере средневекового символизма: «Каждый лепесток скрывает в себе какую-то тайну, эту тайну и надо раскрыть путем символического толкования и обнаружить отражение общего в единичном». В этом, по-видимому, кроется недоверие к науке в современном ее виде: слишком уж она злоупотребляет «моделью анализа». Роль символа в современном познании все больше начинает исполнять научный термин, но, в отличие от символа как такового, термин однозначен. Он не синкретичен и поэтому безобразен. Дискретность терминослов представляет мир аналитически дробным, рассеченным на составляющие его частицы.
Быть может, в том же и причина высокой в русской культуре роли художественного слова, слова вообще. «Русский народ по складу ума несколько фантастичен, условно говоря — „сказочен“, затейлив и художественно изобретателен» [Синявский 1991: 60]. У него на всё и про всё свой собственный разговор.
Такова же и русская философия. Это философия не «школьная» типа немецкой, вся она — в образах и символах, исходит из слова откровенно, а не исподтишка, и философствование Сократа или Григория Сковороды для нее понятней, чем зауми Канта. Даже русская литература глубоко философична, но только она дает не ответы (готовые «вещи» или вызревшие «идеи»), а ориентиры в глобальных идеях, на основе которых строится мировоззрение и человека, и народа в целом [Франк 1926: 4—7]. Русская философия онтологична, уже в самой себе она допускает познаваемость мира, воплощенного в идее-вещи; теория познания разработана мало или вообще обходится вниманием. Отсюда устойчивое неприятие «непереработанного» Канта. Русская философия этична, поскольку гармонию идеи и вещи она понимает как основной закон существования. Всё христианство этично, скажете вы, и будете правы, но важен оттенок. Православное христианство этично эстетически, не словом и делом, но красотой («красота спасет мир»). Даже математик, решая трудную отвлеченно мыслительную задачу, говорит (академик Колмогоров), что ищет не истины, а красоты решения, — и когда задача решена, оказывается, что «красивое решение» одновременно есть и самое правильное. Русская философия сильна не в умствованиях логического ряда, но в красоте поэтического слова. Напрасно среди русских философов искать создателей целостных философских систем, школьных компендиумов, схоластических «сумм». Изучая русскую философию, вы наткнетесь на Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, великих поэтов России. «Легенда о Великом Инквизиторе» из романа «Братья Карамазовы» признается вершиной русского философствования на вечные христианские темы. Сотни людей пытались разгадать тайну притчи и не преуспели в этом. Не смогли уяснить, что истолковать ее — значит понять суть мира и жизни, не смогли постичь, что символ через понятие понять невозможно.
Sum ergo cogito
Постоянно возвращаясь к болезненной для русских философов формуле Декарта cogito ergo sum (мыслю, следовательно существую), эти философы полагали, что русский дух признаёт путь от cogito к sum совершенно искусственным: верный путь лежит только от sum к cogito [Франк 1926: 12], и только слово соединяет мысль и мыслящего, cogito и sum.
Отталкивание от ratio декартовского утверждения характерно для многих; идею существования как предшествие помышлению разделяли Керкегор, экзистенциалисты, Хайдеггер... многие. Всегда осознавали, что «есть что-то, чем можно думать, но с чем нельзя жить» [Бубер 1998: 29].
Русское представление о связи мысли с жизнью не нуждается в столь хитростных заключениях. В то время как западные люди «отдают мысли предпочтение перед жизнью», русские поступают совершенно наоборот: «тезис cogito ergo sum для него неприемлем» [Шубарт 2003: 101], что определяет и различие в философии: западная философия гносеологична (для нее важна теория познания), русская — онтологична, это философия жизни. Друг Пушкина — мистик Владимир Одоевский полагал, что «мыслить не значит жить, ибо мысль есть следствие жизни. Действовать не значит жить, ибо действие есть следствие мысли». Соедините эти точки линиями напряжения — и вы получите законченный контур русского реализма. Это утверждение справедливо хотя бы в отношении к «мыслить», потому что обратное (мысль как следствие действия) есть известная нам соборная операция «думать». «Мысленное делание» Нила Сорского — тоже диалог, но диалог с Богом, так что и в этом случае диалог как действие (как поступок) есть основа бытия: «Ego—sum, alia—non sunt», т. e. «Я есмь, иначе — не существую» [Розанов 2000: 125], или, еще раз: «Сначала надо быть, потом действовать и только потом — философствовать» [Ильин 6, 3: 61]. Подобных суждений можно много выбрать из трудов русских мыслителей, что удостоверяет одновекторность их представлений в данном вопросе. Осознание действительности этого мира — подлинно и очевидно, следовательно — истинно? ибо в противном случае, «признав за иллюзию свое „я“, свое сознание и свою волю», человек, «оставаясь последовательным, должен перестать и мыслить, и чувствовать, и двигаться — должен перестать жить» [Астафьев 2000: 460]. Прежде чем начать познавать, человек должен опереться на знание, но sum основано на чувственном ощущении, которое есть знание.
Сила русского философствования состоит в единовременном осмыслении всех трех компонентов семантического треугольника. С XVIII в. русские философы говорили о «слове помысленном», т. е. об идее, о «слове произнесенном», т. е. о слове (знаке), и о «слове, воплощенном в деле», т. е. о «вещи» как она есть. «Я существую, пока я действую, — мог бы сказать российский Декарт. — Если я бездействую, разум мой спит» [Артемьева 1996: 87]. Таков строй мышления, соединивший слово с поступком, ставящий знак равенства между словом и делом («Слово и дело государевы!»), причем «дело» здесь есть осуществленная связь (со-отношение) между идеей и вещью. Триединство связей исходит из Слова, становясь и словом, и условием безусловного — жизни, которая дана вне мысли и действования.
Жизнь — это большая посылка всякого умозаключения, которую при случае можно и опустить, но забыть — невозможно.
Всегда полезно сравнить собственные представления с понятиями других ментальных культур. Сравним русское sum с католическим cogito.
Подсчитано, говорит историк европейской мысли, что в «Opera omnia» Фомы Аквинского имеется 13x106 терминов — больше, чем в какой-нибудь отрасли современной техники [Попович 1979: 159]. Понятийный уровень познания здесь разработан досконально и дотошно, т. е. до предельного конца и исключительно точно.
Например, согласно Фоме, прежде чем вещь станет предметом рассуждения, она должна существовать, а коль скоро она существует — дальнейшее является делом ее сущности, но при том, что «Бог даст». Если карета наехала на камень — сломается колесо, но совсем не обязательно: без Божьей воли камень на дороге не появится» [Там же: 160]. О причине ли говорит здесь Фома? Вряд ли, он говорит о другом.
Вещь существует в своей сущности — идее, но проявление сущности в существовании вещи зависит от сути — а это и есть Божья воля. Бог — единство сущности и существования, его воля заложена, следовательно, в Логосе, в слове. Откуда появится камень на дороге? Ведь камень — тоже вещь в ее существовании и в своей сущности...
Цепь причин и следствий начинается с существования (sum), а мыслящий субъект существования, естественно, задумывается о своей сущности (ergo cogito). Человек — «мыслящий тростник», он задумывается. Другое дело, что при этом он совершает ошибки. Например, не в том находит сущность существования. Ведь карета потеряла колесо просто потому, что его плохо прикрепили, или кучер недоглядел, или... да мало ли чего sum одновременно с тобой!
Исхождение из слова
«Русский дискурс» вполне проявляется в текстах писателей, не порвавших связи с народным типом мышления. Время составления текста значения не имеет. Аввакум и Андрей Болотов, Александр Шишков и Федор Достоевский, Андрей Платонов или Василий Белов — при всем различии в таланте, манере и даже в тоне письма, условий, в которых каждый из них творил, в своем выражении русскости они одинаковы. Дело ведь не в оттенках, не в вариантах, обусловленных психикой или эстетическими особенностями вкуса и характера. Дело в инварианте — в особенности общерусской. Такой инвариант досужие критики видят в своеобразном «манихействе» русского сознания: имеются в виду богомильские истоки русского сознания, которые возрождались постоянно, потому что были укоренены в событиях реальной русской жизни. Подобный дуализм сознания выражен в русских текстах, является своеобразным признаком русской словесной культуры.
Основные особенности этой культуры мы всё время и обсуждаем; они отразились в языке. Об этом постоянно напоминали славянофилы, например — Алексей Хомяков: «Язык наш, м[илостивые] г[осудари], в его вещественной наружности и звуках есть покров такой прозрачный, что сквозь него просвечивается постоянно умственное движение, созидающее его. Несмотря на те долгие года, что он уже прожил, и на те исторические случайности, которые его отчасти исказили или обеднили, они и теперь еще для мысли — тело органическое, вполне покорное духу, а не искусственная чешуя, в которой мысль еле может двигаться, чтобы какими-то условными знаками пробудить мысль чужую» [Хомяков 1988: 339—340], т. е. передать, обозначить холодное тело понятия, уже извлеченного из доступной сознанию идеи. Ему вторит Константин Аксаков: «Вспомним, что язык, в составе своем, есть воплотившаяся мысль; язык есть разумный мир. А потому мы должны понять язык и построить его на основании в нем выразившейся мысли. О том, что в языке не получило особенного своего язычного выражения, своей словесной формы, — о том говорить нечего» [Аксаков 1875: 530].
Такова исходная точка русского философствования, выраженная славянофилами; эта точка зрения, отталкиваясь от слова, через поэзию и беллетристику, затем через публицистику, к концу XIX в. оформилась в философские системы, отражающие, в первом приближении, русскую ментальность. Заложенные в категориях языка, они являются в следующем виде.
Во-первых, это совмещенность субъект-объектных отношений, выраженных синтаксически — через высказывание — в категориях переходности, возвратности и залога. В любом описании заметна включенность «чувствующего субъекта» в объективный мир, в среду, и одновременно в контекст диалога. Всегда это духовность беседы (в старорусском смысле слова, обозначающего основательное и продуктивное действие в слове), а не формальное общение рационально мыслящего индивидуума. Взаимопроникновение чувства и мысли, чувственного и интеллектуального, вообще присущее человеку, у нас составляет органическое целое, и ни одно из слагаемых не существует без другого. Есть мысли головы, но есть и мысли сердца, — заметил некогда Григорий Сковорода, родоначальник отечественной философской рефлексии.
«Но вот именно тут-то и возникает вопрос очень трудный, как укрыть субъект и сделать объект псиологическим», — в словах Михаила Пришвина высказан самый опасный для рационалистической мысли вопрос: как соединить вещность объекта с идеальностью субъекта? Как скрыть личностное чувство в высказывании и одновременно «психологизировать» логическую реальность объектов в речи?
Как свести в гармонию идею духа и реальность вещи?
В языке то же самое.
Субъект-объектные отношения в истории русского сознания можно проследить на формах имени. Грамматическая форма субъекта — именительный падеж, объекта — падеж винительный; в древности эти формы различались почти по всем парадигмам и для всех имен, независимо от качества и формы «предметности». Именительный — винительный в противопоставлениях, например мати—матерь, дочи—дочерь, любы—любовь, кры—кровь, свекры—свекровь... Особенность русского мировосприятия, поведшего к обобщению одной из этих форм, заключалась в совмещенности соотношений между субъектом и объектом в их амбивалентности, что и привело в конце концов к устранению одной из форм — либо падежа субъекта, либо падежа объекта. Именительный сохранился для обозначения активных существительных деятельности, а винительный — для существительных отношения. Мати > мать, дочи > дочь, тогда как формы отношения матерь, дочерь из литературной речи исчезли. Наоборот, в нерасчлененном смысле именительно-винительного остались слова типа кровь, любовь, даже свекровь — поскольку они служили для выражения отношения к другому, а не деятельности. Такого же характера категория одушевленности, которая развивается в старорусском языке у имен мужского (затем и женского) рода для обозначения активно действующих субъектов, ставших объектами речи (вижу стол — вижу отца).
Всё это безусловно важно. В плане современных философских идей — отхода «от дихотомической модели субъект-объектных отношений к модели отношений системных... Это принципиальная слабость излишне сильной абстракции в противостоянии субъект—объект. Оно элементарно грубо и грубо элементарно — нечто вроде соотношения подлежащего и сказуемого (подмена тезиса: сказуемое — не объект. — В. К.) — не более. Недаром в психологии и управлении всё больше говорят о субъект-объектных отношениях. Возможно, что субъект-объектная модель в теории познания и социального действия — одно из проявлений самозванческих интенций европейского рационализма» [Тульчинский 1996: 156], чего, как мы видим, в русском языковом сознании никогда не было.
Иногда приводят слова Макса Борна о том, как сменялись стили научного мышления в истории человечества; это смена способов отражения мира в сознании человека с точки зрения осмысления связей между субъектом и объектом, между помысленным в разуме и реально вещным [Кукушкина 1984: 136]. Антропоцентрический стиль соответствовал древнейшим представлениям о природе, основанным на неразличении субъекта и объекта; для ньютоновского стиля мышления характерно стремление к «исключению» субъекта из представлений об объекте; современный стиль мышления основан на признании внутреннего единства субъекта и объекта. Конечно, «стиль мышления» не связан только с физическими представлениями о мире, но это — крайняя точка «слияния с веществом». Указанные этапы развития стилей мышления показывают ступени развития мысли в определениях детерминизма, затем вероятностных и теперь «кибернетических». После временной поляризации субъекта и объекта человечество вновь заинтересовано в их схождении.
Проблема субъект-объектных отношений в границах русского языка всегда решалась иначе, чем на Западе, и очень близко к современным научным представлениям о мире. Совмещенность субъекта и объекта в сознании, нерасчлененность их в совместном действии проявляется в «загадочной категории залога»: возвратность-переходность в передаче действия представлены как взаимообратимость, обращенность действия на себя. Не связано ли это с характерным для русской ментальности свойством: «грызет себя», «самоедство» — повышенная степень рефлексии на фоне прямой обращенности к объекту?
Русское слово в стиле речи
Нельзя понять смысла русского слова, не чувствуя его стилистического оттенка. Чувство и мысль, стиль и семантика настолько переплетены взаимными связями, что невозможно их разорвать без ущерба для самого смысла. Одну и ту же, даже самую простую, мысль оказывается возможным выразить различными способами, и отношение личного чувства к излагаемой мысли подчас оказывается важнее самой мысли. Моя супруга почивает — моя жена отдыхает — моя баба дрыхнет — моя вайфа спит (русскоязычный в Америке) — мысль одна и та же, смысл — разный. Англичанин ту же мысль передаст средним стилем (моя жена отдыхает), но вокруг навертит множество уточняющих слов от себя лично, как бы устраняясь от самого факта, подвергая его неявному сомнению: I guess it's true... «Я избегаю таких выражений, как мы, нам кажется, всякому понятно и т. д. Кого этими изворотами и „приличиями“ обманешь? Мне кажется, что в подобных случаях говорить прямо от себя и только за себя — гораздо скромнее и приличнее» [Леонтьев 1912: 226]. Такова русская точка зрения на этот вопрос.
Ее обсуждает Георгий Гачев, сравнивая русское высказывание с болгарским. «В Болгарии трудно мышлению быть отвлеченным. В России, например, интересует: что говорится (словно само собой, безлично), в Болгарии: кто — что говорит», вообще «формулы (структуры) русских истин и максим есть вопросы или утверждения — несбыточно категоричные, на внешний взгляд замахивающиеся объять необъятное. Но именно потому такая структура мысли источает гигантский волевой напор. Это словно приступ к бытию с ножом к горлу: „Даешь!“ А каким еще способом прикажете орудовать, чтобы освоить, постичь бесконечность русской жизни?» [Гачев 1988: 107—108, 144].
Слиянность мысли и чувства — смысла и чувства — обнаруживается уже в момент создания нашего литературного языка. Традиция, которая сложилась в течение столетий, требовала неукоснительного соблюдения этого правила. К красоте и изяществу слога призывал Николай Карамзин, к силе (славянского) слова — Александр Шишков. «Красота» через слово порождает образ, словесный образ явлен в народной традиции; сила церковнославянского слова привносит символ культуры. Понятия — нет, понятие задано, потому что понятие — образный символ — складывается из одномоментного совмещения в слове культурного символа и народного образа. Понятие задано смыслом символа — силой речи — и красотой образа — его изяществом (тоже в старинном смысле слова: как особностью и выразительностью).
В рассказе Юрия Нагибина Пушкин-лицеист беседует с простой девушкой, и они не могут, чисто эмоционально, понять друг друга. Наталья обмолвилась, что подруга ее «тяжела» от графского племянника, улана...
«— Тяжела — гадость! Улан ее обрюхатил, — сказал он резко.
— Фу, Александр Сергеич, ну и язычок у вас! Мы простые и то говорим „тяжела“, а вам приличнее выражаться „беременна“.
— Брюхата! — вскричал Пушкин. — Неужели ты сама не слышишь? „Брюхата“ — полно и округло, „беременна“ — клекот какой-то! А „тяжела“ — вовсе мертвечина».
Именно такая последовательность стилистически сменявших друг друга выражений описана академиком Виктором Виноградовым, откуда, вполне вероятно, и заимствовал свои рассуждения писатель: беременна—тяжела—брюхата (сам Пушкин всегда предпочитал последнее слово).
Слово в грамматическом контексте также не существует само по себе, и «чувство грамматики», и смысл слова неразделимы, потому что незаметны переходы от семантики слова (в степенях повышения отвлеченности — до уровня понятия) и семантики предложения (в степенях повышения абстрактности — до уровня категории). Слово в контексте становится символом, потому что, указывая на одно, имеет в виду совершенно иное.
Внешняя форма слова, его звучание в определенно заданном ритме высказывания, всегда согласована с внутренней его формой, с тем первосмыслом его, который во всяком новом контексте порождает всё новые и новые значения. Особенность эта является в поэзии, но не только в поэзии. Ритмичность русской прозы также своеобычна, у каждого хорошего писателя она индивидуально прекрасна.
Высказывание строится так, что одновременно ты видишь чувство личное, изнутри рожденное — и понимаешь саму мысль, поданную как бы извне, но при этом не механически пристегнутую к фразе, а отраженным семантическим светом освещающую глубинную суть исходного чувства. Возьмите любую строчку русского поэта, и вы увидите в ней двоящуюся перспективу: туда и обратно, но в целом — цельность мысли, одухотворенной чувством. Трудно передать на другом языке подобное соединение двух оборотов мысли, но эстетическое и этическое слились — и мысль состоялась.
Внутренний ритм — это время, сам дискурс создает пространство. Внутреннее время говорящего, чувство движения, охватывает внешнее пространство бытия, входит в него, его преображая. Преображение в слове есть цель, которая — ставится. Цель достигается, если идея как идеал, пройдя через личное чувство телесно и вещно, становится мыслью. Той самой, искомой мыслью, ради которой затеялась речь.
Потому что рождают двое. Одному и одной не под силу, чего-то нет, не хватает, мало. Семени нет концепта — или лона речи, в которой зачатие осуществимо, где состоится оно как творческий акт рождения мысли мирской из идеала идеи, сотворенной не нами.
Вот он, тот пресловутый дуализм манихея, который не нравится посторонним. Не врага он ищет, как полагают часто, но единства в экстазе творения. И не женская это стихия только (как постоянно толкует Бердяев) — но женская жажда рождения, творчества жизни, всегда — с любимым.
Русские писатели все как один со своим особенным складом речи. Переводить их трудно, не «русскоязычных» с их усредненным языком и четким до истончения оттенков слогом. Неважно, с какой стороны подходят они к словотворчеству: от мысли или от слова. Словотворчество Солженицына внешне напоминает то же свойство в прозе Достоевского. Но разница есть, и большая. Профетическая органичность фразы Достоевского недостижима — у Солженицына фраза назидательно сконструирована. Его слова как бы выдуманы, в языке их нет. Наставление вместо пророчества, как это у Достоевского. Перед нами школьный учитель математики, а не вдохновенный пророк. Это не осуждение, не умаление жизненного подвига писателя. Утверждение другой точки зрения на то же самое: точка зрения от вещности слова, а не взгляд со стороны его духа.
Вот Платонов. Андрей Платонов. Он пишет сердцем, не забывая о мысли. Специалисты говорят, что этот писатель открывает новую главу в художественном исследовании русской ментальности. У Достоевского — диалектика чувства, у Льва Толстого — диалектика души, у Платонова — диалектика характера.
Читать Платонова трудно, нужно быть таким же, как сам он, по чувству и мысли — не меньше. Потому что он не говорит, а сказ-ывает, и от читателя требует он труда со-переживания.
Какая-то косноязычная речь, на поверхностный взгляд, речь юродивого, во враждебной ему среде посильно, словом, отстаивающего свое право на правду. Но какая русскость стихийного слова, словно влитого, впаянного в ткань фразы! И чувство его важнее мысли, да мысль и рождается этим чувством, с которого и начинается сближение с писательским словом — стоит только его почувствовать. Не понять, а почувствовать.
То, что со стороны кажется дремуче-неповоротливым, на самом деле глубинно-содержательно, хотя и не сразу прорывается в сознание, привыкшее к мысли формальной, публицистически заостренной «для дурака». Ритм народной речи плавно ведет за собой, как волшебный клубок в заповедные чащи Бабы-яги, завораживает, чарует, отталкивает и снова притягивает. Не нервически метафоричная речь, но основательно метонимичная: не романтик говорит нам, но классик.
Лаконичная точность слова, смысл которого как бы прорастает из грамматики текста, из синтаксиса соединенных против их воли слов. Взглянешь и охнешь: дикая чаща, невспаханное поле, на котором всё сплелось — не разобрать! — в законченном единстве природного мира: и корни, и мурава, и соки земли. Обрамленное вещностью текста, слово утяжеляет свой вес, ложится в благодатную почву, прорастает смыслом, которого и не ждали. Каждая фраза почти символична, в ней синкретизм нерасчлененных со-значений, и тут не до логики фразы в формальном ее соответствии тогда и теперь, причина и следствие, хорошо или плохо. Одновременно одно и то же ты как будто видишь с разных сторон, в перспективе прямой и обратной, сверху и снизу и сбоку: ты включаешься в этот мир не телесно, но чувством — через слово, которое у Платонова и объемно, и ярко.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК