Глава седьмая. Λόγος и Ratio
Мышление есть слушание, которое рассматривает.
Мартин Хайдеггер
Народ и нация
Вернемся к символическому обозначению связи между вещью, ее идеей и словом, которое означает идею и указывает на вещь — к семантическому треугольнику. И тут также обретается такое же тройственное соотношение, как и в любых других проекциях помысленного и действительного мира.
Со стороны «вещи» — индивида-человека — одни и те же особенности характера, эмоции или чувства могут быть у представителя любого народа, но проявляются они в разное время, в различных обстоятельствах и в различающихся степенях качества. Например, все могут быть самоуверенными, но всё зависит от включенности данного состояния в общую систему народного мировосприятия. «Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина» (Л. Толстой. Война и мир, т. III, кн. 1, гл. 10). Оставим в стороне оценку немца (писатель готовится сказать о бездарном немецком деятеле, а таких в любой нации предостаточно), но вот что важно. Выделенные нами слова показывают, что самоуверенность проявляется у француза — в слове, у англичанина — в деле (в вещи), у русского и немца — в идее, но по-разному: русский к идее идет, немец из нее исходит.
У всех всё есть, но по-разному преломляется в системе, выражается различными оттенками. Кроме того, внешние формы проявления национальной ментальности развиваются постепенно, они историчны.
Связанное с самоуверенностью состояние самолюбия (самооценка самоуважения) в английском языке фиксируется с 1640 г. как изменение в восприятии анормальности в поведении личности; в русском языке самолюбство связано с распространением просветительской идеологии, «в системе которой положительное отношение человека к себе перестало оцениваться однозначно отрицательно» [Круглов 1998: 88]. Это проблема гордости, которая перестала быть гордыней.
Со стороны идеи возможны такие же несовпадения, но уже не у отдельных людей, а у разных народов. Это не чувства и не эмоции, а более крупные группы проявления характера. Например, первая идея бывает французской, заключительное изобретение становится немецким (англичанин «выразумел» блоху — русский мастер ее подковал); у англичанина «инстинкт добычи» — он торговец, а немец — солдат (русский — крестьянин: т. е. по основному смыслу слова — настоящий христианин); немец хочет уединения и отличия от других, англичанин тоже ищет уединения, не отличаясь от других, а француз хочет отличаться от других, но не в уединении; француз с «изначальным страхом» борется не волей (как немец), не чувством (как русский), а в мысли — рассудком [Шубарт 2000: 210, 241, 245, 249].
Со стороны слова положение создается особенно сложное. Одно и то же слово может значить разное, но и одно и то же может быть обозначено различными словами: то, что для европейца свобода — для русского свобода и воля, и тогда европеец вынужден домысливать русское понимание (примерно так: «неуловимый идеал свободы часто определялся в России как воля плюс пространство» [Биллингтон 2001: 13]). Такое же соотношение и в других случаях: правда и истина — истина, сознание и совесть — сознание и т. д. Двоение сущего как суть и существенность для русского реалиста в слове — обычная вещь, но это — не удвоение сущностей, как мог бы подумать западный номиналист, а разведение двух ипостасей сущего. Это — восхождение в степенях идеальности.
Кажется странной неопределенная и немаркированная характеристика именно русской ментальности. Однако это — ошибка описания, и не больше того. Всюду основанием сравнения в наших сопоставлениях выступает именно русская ментальность, и естественно, что в сравнении с другими ментальностями в русском представлено многое из того, что является общим для любых народов, и это подтверждает общечеловеческий характер основных черт русской ментальности. Тем не менее в другой перспективе сравнения дело может измениться, и на фоне английской, немецкой или французской ментальности русская сторона выделится признаками различения. Такие признаки различения могут определиться «от идеи» (она уже задана) или «от вещи» (она уже дана), но не «от слова», которое можно заменить другим словом и тем самым тут же устранить возникшее несовпадение в выражении национальном ментальности: гордость вместо гордыни, совесть вместо сознательности, правда вместо истины и т. д.
Именно это и имеют в виду западные авторы, говоря о русской ментальности: она часто скрывается за словом — русским полновесным словом — и потому для западного человека кажется загадочно-неуловимой. Может быть, потому, что западный интеллектуал не владеет диалектикой или просто не умеет за словом видеть суть дела.
Вот и здесь: народ и нация — каково различие между ними? Целые науки занимались вопросом, многие дискуссии засорили предметное поле исследования. А разгадка проста: одно есть вещь, а другое — идея. «Народы, — писал Чаадаев, — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности», тогда как «нация — это не просто сумма индивидов, а некоторое индивидуальное и вместе с тем надындивидуальное целое», составленное из многих людей, теперь живущих и уже умерших, и еще не рожденных, из русских и обрусевших, из многих, которых единит лишь идея «русскости» [Солоневич 1997: 40 и след.].
Национальный вопрос
«Национальный вопрос в России есть вопрос об идеальной цели. Это вопрос не о существовании, а о достойном существовании» [Соловьев V: I]. Владимир Соловьев призывал русских подать пример народам и «произвести вполне сознательный и свободный акт национального самоотречения» и на основе общности веры — христианства — достичь «духовного освобождения России» [Там же: III].
Что в скором времени и случилось (хотя и под другими знаменами), а что из этого вышло — известно. Привело к распаду великой государственности («империи»), утрате национального своеобразия и к ослаблению всякой веры.
Правда, Соловьев уточнял: упраздняется не национальность, а национализм, не вещь, а идея, но в таком случае не русским «показывать пример»: у великого народа, гармонично сочетавшего в одном социальном образовании национальность, веру и собственную государственность, национализма никогда не было (скорее наоборот, приглушение этого чувства перед разноликим племенем народов, входивших в «империю»). «Национализм — последнее прибежище негодяя», ни к чему негодного субъекта, который добивается личных или групповых целей покушением на национальность (это высказывание поэта современные борзописцы извратили). Даже Солженицын признаёт, что Россия уже дважды допустила национальное самоотречение: в призвании варягов и в реформах Петра I. А XX в., которого Соловьев не увидел?
Русские философы высказывались о «двух национализмах» — патриотически-защитительном и агрессивно-захватническом. Отрицая второй, не следует отрекаться от первого, столь же идеального. «Не от национальности отрекались наши предки, — писал Константин Аксаков, а от похоти властвования и командования друг над другом». «Национальная исключительность не только чужда, но и ненавистна русскому народу» [Шелгунов 1895: 902]. «У русских нет национального эгоизма» — это Достоевский. Национальность есть духовная сила, необходимая для социального творчества, «нет силы творчества и действительности народного духа без национального миросозерцания, без национального самосознания» [Астафьев 2000: 35]. Разнообразие народных представлений, данных человечеству, определяет направление действия. «Жизнь одного народа проникнута убеждением, что одни дела спасают, другого — что спасает одна вера, третьего — что вера без дел мертва есть, а четвертого — что религиозная идея есть преимущественно могущественнейшее орудие политической жизни — сила...» [Там же: 34].
Народ в государственности («вещь»), народ в национальности («слово»), народ в человечности («идея») — категории разные.
Народ в государственности
Николай Бердяев во всей полноте выразил русское понимание национального в истории. «Образование исторической национальности есть борьба с изначальной хаотической тьмой, есть выделение лика, образа из безликой и безобразной природы. Это есть благостный процесс возникновения дифференциаций и неравенств в исторической действительности, где всё конкретно», и тем самым «история внедрена в природу» [Бердяев 1991: 78]. Национальность есть лик, формирующий лицо общества и личину государства. «Национальное есть моя собственная глубина и глубина всякого, более глубокий слой, чем социальные наши оболочки, в котором и обнаруживается русское, французское, английское, немецкое, связывающее настоящее с далеким прошлым, объединяющее дворянина и крестьянина, промышленника и рабочего» [Бердяев 1991: 84]. Это — мистический организм, мистическая личность, ноумен, а не феномен исторического процесса — «сумма всех поколений», на-рожд-енных природой [Бердяев 1991: 79]
«На великом историческом сквозняке между Европой и Азией в результате более чем тысячелетней непрерывной и всегда очень кровавой борьбы на великой равнине, доступной всякому вторжению, утвердился именно русский народ... нам очень недаром далось просто-напросто сохранение собственного национального существования» [Солоневич 1997: 43]. «Совокупность основных черт русской нации включает ее сравнительно длительное существование, огромную жизнеспособность, замечательное упорство, выдающуюся готовность ее представителей идти на жертвы во имя выживания и самосохранения нации, а также необычайное территориальное, демографическое, политическое, социальное и культурное развитие в течение ее исторической жизни» [Сорокин 1990: 472]. В свое время старообрядцы не пошли на изменение внешних форм христианского ритуала, полагая, что «изменная вера» лишает предков посмертного спасения (они ведь — люди «старой веры»). Не изменить памяти предков — вот что вело твердокаменных русских на костры. Сегодня тот же выбор: изменить своей нации — предков предать.
«Французский и немецкий народы — это прежде всего — люди, русский дореволюционный, главным образом крестьянский, народ — это еще и земля. Мне думается, что особая одухотворенность, хочется сказать — человечность русской природы есть лишь обратная сторона природности русского народа, его глубокой связанности с землей. Очевидность этой мысли бросается в глаза уже чисто внешне: в Европе, в особенности во всех передовых странах, лицо земли в гораздо большей степени определено цивилизованными усилиями человеческих ума и воли, чем первозданными стихиями природы. Русская же дореволюционная деревня была еще всецело природной» [Степун 1990: 25—26]. Эта облагороженность землей сохраняется как доминанта национального характера и теперь, а почему, на это отвечает современный философ, показывая, «сколь по-разному понимают „землю“ люди Запада и люди России». Для француза земля — что-то твердое и сопротивляющееся, требующее от человека проявлений воли, — «это мечты о власти и свободе», иерархия причинно-следственных связей как основа рационального; для русского же земля — не сухость, а мягкость и всепринятие, щедрость и открытость. Конечное количество элементов земля делает бесконечным, она рождает, она — живая «сыра земля русских народных песен». Землю не покоряют, а охраняют. «Земля открывается слезам, беззащитности, податливости. Она взывает к иррациональному в человеке» [Горичева 1993: 23]. Земля — мать-кормилица, у нее просят прощения, ее спасают, спасая себя. Высшей степенью отречения от своего национального выступает беспочвенность, которая, верно утверждал Бердяев, тоже «может быть национально-русской чертой». Это парадокс, если беспочвенность отражена в слове, или антиномия — если в идее, или диалектика — если в деле.
Это — национальное в государственном. Что же касается общества, тут возможны разные толкования. Общество — из общины, или, как полагал Бердяев, от обществ, в известной мере тайных. Во всяком случае, высшее общество (всякая элита) определенно связана с масонством: «В масонстве произошла формация русской культурной души, оно давало аскетическую дисциплину духа, оно вырабатывало нравственный идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием на души русских людей, но в масонстве образовывались культурные души петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и обскурантизму» [Бердяев 1990: 58]. По-видимому, отсюда возникало убеждение западных историков в том, что в России нет никаких социальных классов, а существуют более влиятельные касты, входящие в определенную иерархию социальных сил [Горер 1962].
Народ в национальности
Национальное проявляется в двояком — в форме национального чувства (прирожденное у всех представителей нации) и в форме национального сознания (как самосознание образованного слоя). Второе соотносится с инородными национальными особенностями и проявляется у интернациональной интеллигенции, а поэтому соответствующий слой гасит национальное чувство в собственных интересах [Ковалевский 1912: 9]. Впрочем, «понижение национального чувства русских» объясняется и «обилием инородцев в русском обществе» [Там же: 13]. Поскольку русский народ — это «державная нация», обычное для реалиста двоение ее понятий на национализм и патриотизм (национальное и государственное как единое) по общей установке западного номинализма пытаются усреднить в одном — желая «вторым забить первый» [Там же]. Историк психологии специально напоминает, что национализм всегда вспыхивает в годину национальных испытаний — так начиная с монгольского ига; давление сознания на чувство, патриотизма на национализм и прочих в том же роде приближает «годину испытаний», а это чревато новыми осложнениями (примеры — в XX в.), и это — серьезное предупреждение.
Но призывы к рациональной логике, к идеальному — к нации, к общечеловеческому и т. д. — повторяются: «пора, пора уже обратиться нам не к народу, а к нации, т. е. перейти от поверхности к глубине, от количества к качеству... Эмпирический народ должен быть подчинен нации, ее задачам в мире...» и т. д. [Бердяев 1990: 84].
Как народ в отношении к нации есть связь природного («вещи») с идеальным, так и родина с отечеством соотносятся, выдавая неслиянную цельность природного (родина) с идеальным (отечество), т. е., другими словами, национального и патриотического. Всякие разговоры о «народе-богоносце» и прочих вычурах воспаленного интеллигентского сознания затемняют кристальную ясность указанных отношений, каждый член которых жизненно важен и не может быть изъят без разрушения цельности «народного духа». «Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью» — словами Ивана Ильина отметим эту сторону дела; отечество в любви не нуждается, ему подай дело. Вот «вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество, — какая между ними разница? Ответ: родина — место, где мы родились, отечество — родина, мною сознанная», — это «духовная родина» [Пришвин 1986: 119].
Народ в человечности
«Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами, — писал Чаадаев. — Оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества» — и нести нам эту тяжесть до конца, если, конечно, мы хотим оставаться великим народом. Для русского сознания не «мнимый принцип национальностей» является основным — он производен от «народного», ибо «передовые славянские люди должны наконец понять, что время невинной игры в славянскую филологию прошло и что нет ничего нелепее и вместе вреднее, народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений мнимый принцип национальности. Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт, имеющий несомненное право, как все действительные и безвредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать; и этот характер, эта манера, составляющие именно суть национальности, суть результаты всей исторической жизни и всех условий жизни народа» [Бакунин 1989: 338]. Крайность такого мнения в том, что признаётся: «принцип национальности несовместим с принципом социальной революции, и он должен быть принесен в жертву последнему», поскольку «интеллектуальный прогресс стремится уничтожить господство над человеком бессознательных чувств, привычек, традиционных идей, унаследованных предрасположений — следовательно, он стремится уничтожить национальные особенности» [Ткачев 1976: 320, 314].
Во всех случаях отчуждение от идеи национализма связывается с социальными проблемами общежития, т. е. природно-вещное подменяется социально-идеальным, Родина — Отечеством, которым, как известно, является вовсе не родная земля, а отвлеченная идея всеобщего братства — всё равно какого, христианского, или коммунистического, или глобалистского. «В абстрактном единстве человечества бытие наций отменяется — человечества нет в нациях и через нации, и нации нет в человечестве и через человечество. Человечество есть отвлечение от всех ступеней конкретного индивидуального бытия. Во вселенскости нация и человечество — нераздельные и предполагающие друг друга члены единой космической иерархии... Нет конкретного человека, а лишь абстрактный человек как класс, нет конкретного человечества, а лишь абстрактное человечество, отвлечение от всего органического, живого, индивидуального...» [Бердяев 1990: 81].
Такое понимание человечности в человеческом, понимание целиком номиналистичное, совершенно неприемлемо для русской ментальности. Оно невозможно в представлении реалиста, для которого идеальное и реальное слиты в единстве, предполагают друг друга и восполняют друг друга энергией действия и осмысления. Русское представление о соотношении национального и общечеловеческого глубоко выражено Достоевским, который повторял: «Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнию, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону» [Достоевский 1980: 7]. Это не одиночное высказывание, а русская точка зрения. «Я твердо придерживаюсь той точки зрения, что каждый народ по-своему неповторим и что именно этим он и хорош. Неповторимость эта обусловлена природными данными, но в то же время есть тут и Промысел Божий. У всякой звезды своя ясность; у всякой былинки своя форма; у всякой бабочки свое великолепие красок; даже горы по-своему молчат, слагая своими пиками гимн поднебесью» [Ильин 6, 3: 106—107].
Человеческое как общее не есть среднее от суммы всех национальных и, конечно, не есть нечто, свойственное только наиболее агрессивной нации, нет: человеческое — в человечности.
Кажется, именно этот тезис и неприемлем для многих, кто только свою нацию почитает за идеальную.
С большим удовлетворением ознакомившись с переводом книги Хейдена Уайта «Метаистория» [2002], я обнаружил сходство идей калифорнийского профессора со своими, правда — в иных терминах представленных. Вместо моего следования Образ ? Понятие ? Символ ? Концепт Уайт предлагает функционально и содержательно Метафора ? Метонимия ? Синекдоха ? Ирония, тем самым сужая философское поле проблемы до уровня эстетической поэтики. Впрочем, анализ исторических трудов, предпринятый с помощью этих понятий, высвечивает содержательный их смысл с неожиданно продуктивной силой.
Первая антиномия: церковь и государство.
Давно замечено: если властная сила на стороне государства, а церковь подавлена, то у народа истощается духовная энергия и деградирует мораль; если, напротив, церковь узурпирует власть, то у народа деградирует политическая воля, так что полная победа той или иной стороны вплоть до универсальности может привести к остановке мирного процесса развития с возможной гибелью нации. Состояние то же, что в случае единства духа и тела: в здоровом теле — здоровый дух, и народ процветает — потому что обе силы объединяет эта национальная идея. Разумеется, сказанное относится к соотношению «церковь и государство» в их идеальном виде, преобразуемом в соответствии с характером времени; так (крайний случай) армейская дедовщина развилась в связи с отменой института партийного «комиссарства» в армии, и «сила солому ломит».
Вторая антиномия — народ и нация.
Идея нации возникает в обществе как осознанный принцип, управляющий разными народами в составе общего государства. В этом смысле только россияне представляют нацию, тогда как русские, как и прочие этносы — народ. Необходимость обслуживать местные народности и народы империи препятствовала развитию русского народа в нацию. Но в таком случае французская или английская нация также включает в себя все разноязыкие народы и народности, вошедшие в состав традиционного государства, а сами французы и англичане — народы, которые нарождаются в соответствии с законами природы.
Любопытное заключение: «Америка и Россия предстают как возможности развития в будущем новых видов государств... В лучшем случае они могут говорить о возможностях будущего развития на основе логического продолжения тенденций, уже различимых в целостном процессе... до мирового государства, которое предвещает их реализовавшаяся интеграция» [Уайт 2002: 157]. США стоят на уровне метонимии, Россия — на уровне иронии, к тому же Россия прошла горнило «предварительного опыта социализма», а США — нет. Отсюда вывод: Россия как государство чревата новым в большей степени, чем США.
Русофобия
Фобия — страх, и русофобия есть «панический страх перед Россией или ненависть к ней, принимающая иногда форму программы ее тотальной деструкции» [Идеи, 2: 334] — говорит польский словарь и продолжает: «Некоторую роль в распространении и укреплении русофобских эмоций и стереотипов сыграли фальсификации, сочиняемые по заказу антирусских кругов [перечисляются]... В язык публицистики понятие русофобии ввел в 1989 г. И. Шафаревич, согласно которому русофобское мировоззрение основано на убеждении о второстепенной роли России, являющейся неизменно воплощением деградации, отсутствия достоинства, преклонения перед кнутом и властью, ненависти к чужим. Такая Россия — по мнению Шафаревича — смертельная угроза миру... Русофобия есть мировоззрение „малого народа“, изолированных групп интеллигенции, „находящихся под влиянием какой-то могучей силы“ и ставящих перед собой цель покорения „Великого народа“ (России) и его „духовную оккупацию“. „Малый народ“ (,,антинарод“) представляет интересы еврейского национализма, заинтересованного в уничтожении России. „Великий народ“ живет согласно традиции и вере, в органической связи с натурой; „малый народ“ питается доктринерским спекулятивизмом, деструкцией и деморализацией» [Идеи, 2: 336, 338]. Автор статьи говорит о «натуре», в органической связи с которой живет «Великий народ», а натура — это природа. «А природа является колыбелью, мастерской, смертным ложем народа» [Ильин 6, 2: 375], именно так и воспринимает «натуру» русская ментальность.
Согласие польского автора с некоторыми положениями русофобства исторически понятно, но и вся Европа, в сущности, подключается к той же тенденции, усиленной различными рекламными компаниями в защиту «малого народа». Это было высказано еще между двумя мировыми войнами, когда не было холокоста и прочего: «Находящийся в плену прометеевского идеала европеец — особенно северный, с его деловой хваткой и рационализмом — всё больше уподобляется еврею диаспоры и всё больше поддается еврейскому влиянию. В готическую эпоху считалось позорным делать гешефт и заниматься ростовщичеством. Сегодня же восхищением и признанием пользуется тот, кто делает это с успехом и без всякого зазрения совести. В Прометее всё заметнее проступает облик Агасфера — вечного, гонимого Жида... у них нет ни духовной, ни материальной власти — духовной особенно (безнадежное невежество евреев постоянно обличается в летописях Средневековья как одна из самых ярко выраженных их черт)» [Шубарт 2003: 20].
Что же касается русского человека, то чистое внушение ему комплекса неполноценности приводит и к утверждениям вроде следующего: «В основании мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся — философия выпоротого человека» — но, тем не менее, «сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их... Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает» [Розанов 1990в: 5, 57]. В этом горестном замечании скрыта великая истина, которую, между прочим, «малый народ» соблюдает свято: «...сами разберемся, а кто нас поносит — урка и рвань». Хорошо бы и русским с тем же достоинством отвечать на русофобию так же. Ведь русофобия — философия выпоротого человека, который теперь уже хочет сам всех выпороть.
Борис Миронов в книге «Кому в России мешают русские?» диагностически наметил признаки русофобства. Перечислим их для полноты картины.
Вопли об угрозе русского национализма (чтобы подавить волю, его представляют обязательно как «русский фашизм»), но «национализм — это естественная забота нации о самой себе». Постоянно утверждается, что государственный интерес более важен, чем интерес национально-русский, но «не нация для государства, а государство для нации», особенно титульной (местнические национализмы многих стран бывшего СССР это доказывают). Утверждается также, что интересы народа важнее интересов нации, т. е. исключается духовная компонента данного соответствия. Утверждается идея патриотизма, но исключается идея Родины («эта страна»), тогда как «нация творит исходя из своей истории и руководясь своей совестью». Отсюда вывод: «Мы, русские, должны развить в себе национальный эгоизм» — это всегда спасало в тяжелые моменты истории. «Сам русский национализм и есть сегодня воплощение русского духа» [Миронов: 52]. «Национализм ненавистен тому, кому страшна крепость России», кто хотел бы заполнить русские просторы собственным национализмом.
О Родине: «исчезающее чувство родины ищет для себя нового воплощения. Замечательно, что вместе с интернационализацией национального чувства не утоленная потребность в материнском лоне родины направляется по новому руслу: открывает, в границах великой, малые родины и на них переносит свою любовь. Областничество — очень заметное явление культурной жизни Запада» [Федотов 1982: 150].
Продолжим сравнение с тем социально-культурным «портретом» современной западноевропейской цивилизации, который дают лучшие представители европейской культуры, и увидим, что атаки на «русский национализм» охватывают ту полосу существования, в которой гниение Запада особенно чувствительно (сводка высказываний по: [Литвиненко 2000]).
Современная западная цивилизация агрессивно эгоцентрична, она не приемлет конкуренции, хотя постоянно взывает к ней.
Западная цивилизация деспотична и тоталитарна, она выдает себя за единственную «общечеловеческую ценность», но вместе с тем развивает «либеральный фашизм».
Западная цивилизация цинична и безнравственна, исповедует двойной стандарт в оценках, использует ложь, фальшивки, вранье, поэтому с ней совершенно необходимо придерживаться стратегии «ограниченной защитной отстраненности».
Нет, это уже не та Европа, которую видел Чаадаев, с ее идеей «долга, справедливости, права, порядка» — слишком формальные, эти ценности выродились окончательно.
Все это дает основания для поддержания ключевых понятий традиционной русской ментальности, которые противоположны указанным западным ценностям. Если настойчивое желание сохранить в этом мире собственные свои ценности есть национализм — что ж, это доброе дело.
Однако русская точка зрения — это условия взаимности. Подарок требует ответного дара. Посмотрим на себя со стороны.
Взгляд извне
С XV в. известны описания русских, сделанные иностранными наблюдателями, побывавшими в России. Незнание русской жизни ограничивалось описанием бытовых деталей, мелочей «обыденного строя жизни»; но «будучи более образованными, чем их русские собеседники, они бывали более способны анализировать явления нашей жизни» [Коялович 1997: 84]. Странная логика: предмет непонятен, но идеи о нем («понятия») рождаются тотчас. Ясно, что речь идет о типологическом наложении собственных представлений («более образованны») на «обыденный строй жизни» русских. Что же так? И католики («иезуитство»), и протестанты одинаково стремились «поработить Россию: Англия — своей торговле, иезуиты — своему папству. Само собой разумеется, что при такой задаче те и другие должны были смотреть на Россию как на материал (как на вещь. — В. К.), который необходимо пересоздать, потому что в нем всё дурно», но прежде всего, конечно, «сокрушить эту державу для интересов Запада и Латинства» [Там же: 100—101]. Такова исходная точка западных «интересов» к России.
Она объясняет и толкование русской ментальности, и задачи практической деятельности по «освоению» русских пространств.
Тип характеристик изменялся.
Сначала иностранцы поражались степеням в проявлении тех же качеств, которые были свойственны им самим. Например, тому разгулью во время празднеств, которые и на Западе известны по различным фестивалям и карнавалам, непомерному питию в дозволенные дни (русские послы в Европе дивились тому же), даже любви к «гнилой рыбе и капусте» (соленой сельди и квашеной капусте): сами-то ели гнилые сыры и прочее в том же духе. Сравнивалось то же, но не в том объеме, качестве и интенсивности.
Со временем зарубежные гости стали воспринимать существенные стороны русского характера, не совпадающие с западными стандартами существования. С XVIII в. отмечены антиномии русского быта [Егошина 1998], например гостеприимство — вражда к чужакам; сострадание — равнодушие и терпеливость; фатализм — безудержные порывы; негодование против злоупотреблений — склонность к коррупции, обману и воровству; романтизм — практицизм; веселость — меланхоличность и т. д. Мало сказать, что в разных текстах мы находим взаимно противоречащие характеристики одной и той же русской черты (часто по-разному видят одно и то же англичанки и француженки), но и соотношение указанных «антиномий» предстает слишком обобщенным — в действительности данные «оппозиты» находятся в дополнительном распределении и часто наличествует у представителей определенной социальной среды. Раболепие в XVIII в. у крестьян во многом притворное, а у высших классов оно искреннее; обезьянничанье по отношению к иностранцам тоже присуще правящим «кастам» [Там же: 53] и т. д. Какая уж тут русская ментальность! Те черты, которые показаны справа в «антиномиях», являются своего рода результатом приспособления к изменяющейся социальной среде, накладываются на коренные свойства ментальности (показаны слева, до тире), часто вступая в противоречие с идеально-психическими характеристиками русского народного (крестьянского в массе) типа. То же «раболепие» как знак внешней покорности не в чести у общины (> общество), и потому справедливы замечания иностранцев о том, что русский человек находился в постоянном конфликте с властью, не желающей его выслушать. Внутреннее противоречие русского характера и сложилось оттого, что русский крестьянин редко жил по своей воле в соответствии со своей натурой — его заставляли поступать в соответствии с принятым каноном жизни [Там же: 60].
По многим текстам, приведенным уже в книге, можно судить о том, что среди иностранных авторов были и проницательные наблюдатели, глубоко и сочувственно заглянувшие в тайны «русской души»; во всяком случае, они различают вертикаль быта (классовые пристрастия внешнего характера) и горизонталь бытия — духовные, социальные, интеллектуальные сферы жизнедеятельности русских людей в их нелегкой истории.
Ни в одной нации нет той чистоты этнического типа, которая обусловила бы законченность и ясность национального характера или законченную особенность ментальности. Англичане ведут начало (в типичной массе) из англосаксонских и норманно-французских корней [Оруэлл 1992: 221] с добавлением бодрящей крови упрямцев кельтов. Немцы также не составляют цельного типа, в их составе и германцы, и славяне, а также франки. Давно показано, что французы составляют сложную смесь этнических типов (галлы, кельты, много бурной романской крови). Внутренняя противоречивость типа определяется смешением, например смешением «брюнетов брахицефалов» с белокурой расой «удлиненных черепов» [Фуллье 1896: 69 и след.]. Первым не хватает энергии для волевых усилий, но они умеренны, трудолюбивы, интеллигентны, благоразумны, ни в чем не полагаются на случай, подражательны, консервативны, но безынициативны, привязаны к родной почве, им свойствен дух рутины и веселость нрава — «ссоры и драки не в их вкусе», и они «природные подданные».
Вторым присуща живая чувствительность, быстрый и проницательный ум, соединенный с деятельностью и неукротимой энергией; неугомонные, они любят равенство, предприимчивы, честолюбивы, ненасытны — «с постоянно растущими потребностями» и потому «без устали суетятся для того, чтобы их удовлетворить»; необузданная воля влечет их к крайнему индивидуализму. И те и другие чувством и волей отличаются резко, но ум у обоих одинаково развит. Всё остальное не совпадает. У брюнетов больше развито религиозное чувство, тогда как белая раса отличалась сварливым характером с частыми спорами и грабежами соседей. Но и это не всё. Третья группа французских предков — «средиземноморские длинноголовые» неарийцы — отличалась всегда сильной волей, упрямством, мстительностью, веселостью и дружелюбием при том же ярком качестве ума: «...средиземноморская и семитическая раса очень интеллигентна; по своему моральному характеру, как и по своим морфологическим признакам, она приближается к арийцам» [Фуллье 1896: 68—69].
Ratio — вот та струна, на которой соединялись этносы Галлии, давая оттенки типов и постепенно сплавляясь в нацию.
Душевность чувства — та сторона характера, которая стала основной составляющей в формировании русской нации, также сплавленной из многих этнических потоков, разлитых по плодородной Русской равнине.
Оппозиции
Стоит привести основания, по которым немецкий культуролог русскую ментальность ставит выше западноевропейской [Шубарт 2000: 105 и след.]. Правда, при этом он не уточняет, что русская ментальность есть духовность.
Но по порядку.
«Русский — человек души», даже делу он отдается не целиком; западный человек весь в «предметной деловитости». У русского универсальное видение мира (цельность жизни), тогда как западный человек имеет видение «специализирующее», он видит точки жизни. Именно по этой причине русскому присущи разбросанность и «крупность», тогда как западный средний человек характеризуется основательностью и мелочностью. Если для русского целое предстает в полноте всего, на Западе целое воспринимается как сумма частей. Мы говорили об этом применительно к системам: для русского система — живое целое, на Западе система конструируется из отобранных частей. Русская система органично природна, тогда как западная культурна. Отсюда еще различие, которое многое объясняет: русские сильны в синтезе (действует принцип примирения) — западные люди — в анализе, предполагающем борьбу и разделение. Следствия отсюда идут далеко. В частности, русский в новом человеке видит потенциального друга, западный — врага («империя зла» и прочие выкрутасы воспаленного воображения). Западный ученый, писал П. И. Ковалевский, высказывает свою точку зрения и не соглашается с другими гипотезами. «Иначе поступает русский. Он тщательно изучит и обсудит и одно и другое, заберет у каждого то, что имеет смысл и значение, и найдет выход, который является примирением непримиримого (синтез! — В. К.). Такая объединительная способность несомненно составляет особенность именно русских национальных дарований» — они самокритичны. Впрочем, оговаривает дело автор, «ныне в русскую интеллигенцию забралось много инородцев», которые изменяют общий тонус русской научной мысли; особенно плохо то, что они склонны «с великою злобою обливать помоями всё, что не их», преклоняясь при этом «перед всем иноземным» [Ковалевский 1915: 52].
Принцип целости у русских противопоставлен западному принципу частичности во всех направлениях. Современный философ, описывая «русский дискурс», подчеркивает его коренные особенности [Гиренок 1998: 371 и след.]: «истина связана не со словом, а с образом» (терминология на втором плане исследования), русский дискурс не рефлексивен, «он является по преимуществу содержательным», он принципиально неметафизичен и привержен «феноменологии жизни» при полной обращенности к «соборности». Все дальнейшие суждения автора можно уложить в несколько строк: «...а поскольку в России нет никакой ментальности, а есть почесывание затылка, постольку эту ментальность я называю умостроем» [Там же: 379]. Очень хорошее определение, из которого ясно, что авторская маркированность на Ratio лишает Логос права на существование. Против этого следовало бы напомнить известное высказывание авторов сборника «Из глубины»: «Понятие умственности шире понятия рационализма, относимого к философскому течению, начатому Декартом и доведенному до Канта» — и мы уже обсуждали этот вопрос. Это для западного человека «мыслить — значит вычислять в словах» (снова включаем суждение Шубарта, основанное на цитате из Гоббса) — русские же не считают, они — оценивают (такой уж у них язык!). Формально логические операции ratio способны привести к логическому кругу, в котором вертится мысль, не в силах справиться с реальностью вне ее. Давно сказано русским гегельянцем, что такой возможности не замечают единственно оттого, что в своем самодовольстве «отреклись от логики, заменив ее привычкою», — но не любая мысль, «не всякая идея есть сила, способная перейти в действительность, а только такая, которая соответствует чему-либо действительному» [Чичерин 1998: 51, 48]. Забыв об этом, постоянно исполняем идеи, которые не соответствуют ничему действительному. «Докопаться до национальной логики» пытались многие: поскольку часто «подозревается, что у каждого народа есть особый склад мышления, система своих категорий или особое соотношение понятий, присущих и другим народам. Есть что-то, что побуждает вести рассуждение особым образом, среди каких-то своих проблем, их решая, и движа мысль в направлении к каким-то целям» [Гачев 1988: 180 и след.]. Национальная логика — самая имматериальная часть ментальности как проявлений духовной деятельности. Как на основную особенность именно русской мысли автор указывает «бросающуюся в глаза полемичность» ее — полемичность с Западом прежде всего. Русской мысли чуждо «законченное целое, совершенство, форма (греческая мысль)», но ей чуждо и «опосредствование» (это германская мысль). Для русского мышления характерны «открытость, всевосприимчивость, отсутствие начал и концов, зато способность начинать сразу, in medias res, танцевать не от печки; невозможность силлогизма, зато развитие иных, незамкнутых форм мысли; отсутствие четких оппозиций: добро — зло, правый — левый (возможных при определенном, завершенном космосе народа); устремленность рассуждения не в изыскание причин и происхождение вещей, а в их призвание; допущение самостоятельного бытия разного, и отсюда толстовское «не соединять — сопрягать надо» («сопрягать» — это также и приноравливаться); большее упование на неизведанные возможности жизни, случай в ней («везение» и «авось»), чем вера в жесткую необходимость и предусмотрительность» [Гачев 1988: 182—183].
Поскольку целое безгранично, русский избегает строгих форм, не использует законченных схем и вообще «смотрит вдаль». Наоборот, западный человек постоянно всё оформляет, занимается схематизацией «систем», потому что верит, что «смотрит вглубь». В русской художественной традиции заметно постоянное изменение содержания при неизменности форм — форма наполняется содержанием, которое важнее формы; напротив, у западного мастера импульс к изменению форм (реструктуризация наличного бытия) [Шпидлик 2000: 9—10]. Это очень важное ограничение. Оказывается, для европейца форма и есть логика. Логическое суждение должно управлять предложением языка, и тогда признают, что форма в наличии. А уж коли своенравное это предложение лезет несобранными концами в стороны и поперек — значит, нет формы! Вот и является в России «непонятная логика (Александрийская, Византийская), загадочные корни в православии... ясность в Европе... интеллигенты и европейцы...» — снова и снова размышляет Михаил Пришвин относительно «русской логики». Но слабость логики в том, что она формальна, она устанавливает степень истинности, а не ценности.
Тем более, «грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением» (Потебня). Язык — реальнее логики, которая возникает на его основе; реальнее и материальнее. Подлежащее и сказуемое в предложении добыты (не заменяются друг другом), а в логическом суждении сочетаемость или несочетаемость двух понятий может изменять направление вектора (субъект и предикат взаимозаменяемы). Да и грамматических категорий больше, чем категорий логических, они активно изменяются и различаются от языка к языку.
Как сказано, у русского Другой вызывает изначальное, может быть ничем не оправданное доверие, что западный человек осознает как слабость и часто этой слабостью пользуется, потому что ему-то изначально присущ остерегающий страх перед Другим. Основано это различие на том, что русский по природе своей созерцателен, а западный человек активен; первому недостает решимости, второму — терпения. Русского «несет поток времени» — он в вечности («у русских сейчас значит через час»); западный обыватель торопит время, раздробленное на моменты.
Русский служит конкретному человеку, а в жизни по характеру он — игрок; западный обитатель служит безличному долгу, он накопитель. Но тут опять закавыка: «Логическое долженствование есть принудительность не sollen ‘быть обязанным’, а m?ssen ‘быть вынужденным, необходимым’» [Струве 1997: 355]. Таков этот долг западного обывателя. Для полноты картины скажем словами Георгия Флоровского: «Русские живут под знаком долженствования, а не ожиданий и предчувствий». Не парадокс ли это? Конечно не парадокс, а русское понимание долга: sollen. Этика, а не логика.
Поэтому и мышление русского неисторично, он постоянно находится в точке настоящего; для него история — всего лишь часть философии жизни, пренебрегающей традицией. «Русскому народу свойственно философствовать», — справедливо утверждал Бердяев, говоря о «русской идее». Это культура забвения, продолжает Шубарт: русский умеет прощать. Западные люди мыслят исторично («незнакомое будущее можно свести к знакомому прошлому» и из него исходить в оценке настоящего — знакомая песня!). Это культура памяти, но и история здесь не глубинно философская категория — а публицистика, журналистика, ремейк. Здесь снова мы видим неясность формулировок, они затемняют суть дела: судя по определениям, именно русские историчны, ибо видят процесс жизни в развивающейся перспективе (вещно) на фоне вечности (идеально). Это объясняет также, почему русская мысль творит в интуиции, а западный человек «злоупотребляет мозгом», начиняя его всяким хламом (все это — тезисы Франца Шубарта).
«Суммируя всё вышесказанное, — утверждает современная исследовательница, — мы можем констатировать существенные различия в представлениях о ментальных категориях [например] в русском и французском языках. Мы могли бы определить французский тип сознания в этой сфере как рационалистический, русский, скорее, как интуитивный. В сфере соответствующих французских представлений, структурированных и отточенных, царит известный порядок, в сфере русских представлений, неструктурированных (т. е. «бесформенных». — В. К.), отмечаются упрощение картины ментальных категорий, невыделение, стяжение различного в одну категорию (синтез категорий, явленных только в конкретности текста. — В. К.). За русскими понятиями стоят этимоны, восходящие к родовому строю (к органике живого. — В. К.), за французским — к государственному (к формализованным правилам «закона». — В. К.). Возможно, отчасти именно этим определяется существенное различие в поведенческих сценариях, реализуемых представителями этих двух столь не похожих культур» [Голованивская 1997: 222]. (Специально о французском заметим: до XVII в. и французская ментальность опиралась на «чувственное» и интуицию; формализация в логические категории относительно новая сторона «галльского разума».)
В поисках действительных причин всех описанных расхождений вернемся к началу параграфа.
На примере сложения французской нации мы видели, что усреднение этносов происходило на основе единственно общего признака — Ratio, что обусловило равнение на закон, на порядок, на рациональное. М. К. Голованивская подчеркивает, что французское pens?e есть чисто французское отношение к ментальным проблемам (всё нужно взвешивать на весах истины), тогда как русская мысль «сплелась» с византийской в Средние века и с западноевропейской в Новое время, не представляя собою той цельности, которая характерна для западной мысли в ее отточенности. Ratio не стало точкой единения русских этносов, поскольку народы Востока, участвовавшие в создании Русского государства (= нации), в качестве направляющей силы предложили как раз «созерцательность», «цельность», «универсальность» и прочее, что выделяет Шубарт как достоинства русской ментальности. Русская воля не покоряла миры, она их осваивала и усваивала, соединяя в целое — в синтезе — разнородные этносы, понимая их право тоже — на существование равно как и собственное свое право на то же.
Труд и досуг
На нескольких примерах воплощения в языке ментальности рассмотрим некоторые расхождения в ее национальных формах.
Например, толпа в русском представлении выделяется по признакам: множество людей, беспорядочное и шумное, теснящееся, бессознательно подчиняющееся большинству и потому таящее угрозу; в целом толпа понимается как веселая шумная ватага. Английское слово crowd в соотношении со своими синонимами представляет толпу как очень плотное множество, которое также теснится, движется вперед, возбуждено, нарушает порядок и заслуживает презрения; в целом это представление о возбужденной массе, не предвещающей ничего хорошего [Карасик 1996: 8].
Отношение к труду, которое выражено в соответствующих словах, также различается [Там же: 15]. Для англичанина главное в работе — результат, герой должен вести себя благородно, человек удивляется чуду, во всех случаях следует вести себя осмотрительно и умно, а глупец достоин осмеяния. Для немца главное в работе — старательность исполнения, герой ведет себя с тем же достоинством, человек очарован чудом, следует вести себя умно и уважительно, а глупец достоин сожаления. Для русского главное — желание трудиться, герой обязательно должен идти на самопожертвование, у человека восторг перед чудом, следует вести себя красиво, а глупец достоин сожаления. Для русского («православного»!) «труд есть actus personae: в нем участвует весь человек, его тело и дух» [Вальверде 2000: 379].
Древний римлянин исходил из досуга — otium — как нормального состояния «и уже через его отрицание образовал понятие дела, занятости — negotium (немец это же понятие досуга преобразует в понятие порока)» [Шубарт 2003: 113], т. е. die Mu?e ‘досуг’ преобразует в der M??ggang ‘безделье, леность’. В славянском представлении «досуг есть собственно способность или возможность досягнуть рукой, отсюда способность что делать и свободное время как условие этой возможности» (это определение академика Б. М. Ляпунова приводит Г. Г. Волошенко [1994]. Западное понимание досуга он же заимствует у Маркса: «способность более возвышенной деятельности, свободное время». Различие в том, что русский в досуге свободен волей, тогда как западный человек продолжает хлопотать по долгу жизни в «более возвышенной деятельности», на которую, очевидно, на работе времени нет. Русская бытовая формула досуга (часто воспроизводится): «Работы не требуется, а отдыхать не хочется» — соотносится с признаками: то, что можно достать (получить) или что уже достигнуто как награда — как результат достижения, личной ловкости и мастерства (благодаря мастерству в деле выкроить себе свободное время) — с XIV в., а понимание досуга как просто свободного времени известно у нас только с 1890-х гг. [Там же]. Переход к такому, исторически новому пониманию досуга идет через понимание недосуга — апофатическим утверждением занятости, скажем так, на основной работе. Г. Г. Волощенко [Там же: 410] восстанавливает различие в понимании творческого досуга в разных культурах как последовательность действий: высшая деятельность > деятельность > отдых. Для русско-славянской ментальности эта последовательность развивается от деятельности к высшей деятельности и через деятельность — к отдыху. Древнегреческое понимание досуга совпадает с римским, но как гармония всего во всем: schola — это соответствие высшей деятельности и деятельности в разумном сочетании с отдыхом. Романо-германское понимание досуга (muber, leisure и т. д.) это деятельность, направленная на высшие формы деятельности (т. е. обратно славянскому пониманию), от простого к сложному, почти не предполагая отдыха как самостоятельной формы жизнедеятельности. Заметим особенности русского понимания досуга и труда: и то и другое определены желанием, а не интересом, направлены на красоту и ценность, исходят из этических признаков общего дела.
Отношение к собственности. В русской и немецкой ментальности признаки отношения к собственности почти совпадают, в частности, «оценивается не то, как субъект относится к собственности вообще, а именно отношение к переходу собственности. При этом любые изменения отношения обладания... а также и сохранение его неизменным может получить и отрицательную, и положительную оценку» [Языковая личность 1996: 29]. Отметим это: всегда выделяется мера справедливости при переходе собственности от одних к другим. Но есть и отличия: немецкий язык не указывает на непреднамеренность действия (прихватить), а русский не обращает внимания на предназначенность объекта именно для данного субъекта (zuschlagen); немец получает «собственность» «в результате продолжительного и терпеливого ожидания» (ersitzen ‘высидеть’), а русский после судебных тяжб (оттягать, отсудить и т. д.). Кроме того, в аристотелевском принципе добродетели как усреднении крайностей и русский, и немец не на высоте: расточительный — бережливый — чрезмерно бережливый, т. е. скупой, — русский скорее расточителен, а немец скуп (но отдельные субъекты могут входить в зону идеально «бережливого»). Всё дело в интенсивности отношений по признакам, которые присущи любой ментальности.
Закончим сравнением понятий о чести. Английское слово honor широко по смыслу, русское слово честь менее определенно и по основным значениям не совпадает с английским. Так, для американца основное в понятии о чести — это высокая репутация, т. е. важно отношение извне, со стороны; русское же представление о чести объединяет значения личного качества субъекта и отношения к нему со стороны (так по всем этическим категориям: совесть и пр.). Для русского, следовательно, важно иметь степени самоуважения, чего в английском варианте нет: там важен престиж. Гонор — рыцарская черта, состоящая в том, что самоутверждение в обществе достигается путем соревновательности. Исследователи отмечают, что американское (например) понимание чести связано с деловыми отношениями, а русское (в частности) с воинскими (Языковая личность 1996: 56 и след.). Парадоксальность этой ситуации состоит в том, что идея чести — именно воинская идея, а ее искаженный облик на Западе приводит к странным извращениям. С. Н. Булгаков [1991: 24, 32, 38 и др.] показал это на примере фашистской Германии: «Можно спросить себя, что же означает эта „честь“, которая становится высшим критерием жизни, даже выше любви, ибо последняя допускается лишь в одной своей разновидности, как любовь к чести. Это трудно определимое понятие, которое почему-то соединяется с идеей свободы (очевидно, лишь для носителей этой чести), может быть понято как сознание своей единственности и превосходства, присущих „северной“ расе... демонизм национальной гордости (,,чести“)» или — «своеобразный демонизм, который питается чувством гордости, или ,,чести“».
Понятно, что отношение к подобной чести у русских однозначно: гонор — «ревнивое охранение своего достоинства в мнении посторонних людей — преувеличенное понятие о своей чести или достоинстве» (русские словари конца XIX в.; в словаре В. И. Даля слова нет).
Погружение в Ratio
Можно привести множество определений Ratio, но у нас есть возможность ограничиться единственным, зато исчерпывающе убедительным. Примем это определение за исходное.
Мартин Хайдеггер в лекциях «Положение об основании» [1957] сообщает, что основание — это именно перевод слова ratio, но и разум тоже перевод слова основание [Хайдеггер 1999: 166]. Рацио как основание идет от Лейбница и представлено в немецком языке — во французском ratio есть разум. Ни то ни другое не соответствует этимону латинского слова: «Ratio относится к глаголу reor, основной смысл которого таков: ‘принимать нечто за что-либо’; подставляется, подкладывается именно то, за что нечто принимается» [Там же: 169]. «Ratio означает учет (Rechnung)», определяющий отчет и то, что в самой вещи является определяющим. Так в Европе одно и то же исходное слово (как разум и как основание) дало двойную истину. «Но теперь мы мыслим по-латински, а следует углубиться и мыслить по-гречески», потому что «и в римском слове ratio говорит некое греческое слово; это слово logos», связанное с глаголом legein, что означает присутствовать (anwesen). «Что означает logos?» — смысл его от глагола со значением ‘собирать, класть одно к другому’» [Там же: 180], и в конечном счете — сказать. Логос — сказание. «Здесь установлена взаимопринадлежность бытия и принципа и ratio, бытия и основания как основания разума» [Там же: 184]. Более глубокого проникновения в сущность ratio как одного из предикатов Логоса, в философской литературе нет. «Неотесанность формы изложения» своего понимал и автор — но столь сложен предмет обсуждения. «Когда мы спрашиваем, что же такое „основание“, то прежде всего мы имеем в виду вопрос о том, что означает слово; слово что-то означает; оно дает нам нечто понять, и именно потому, что говорит из самого Нечто», и тогда «сущее является нам как объект, как предмет» [Хайдеггер 1999: 158].
Если соотнести сказанное с русским эквивалентом (Logos > Ratio > Сказ), станет ясным, что речь постоянно идет о том, на чем всё покоится, в чем всё заключается, из чего всё происходит [Там же: 164]. Это Нечто — концепт, который определяет меру и степень понимания, и Логос, предшествуя Рацио, определяет это Ratio.
Причем «концепт» не понятие вовсе (conceptus), а «зерно первосмысла» — conceptum. Основание и одновременно Разум.
Равным образом и Логос — вовсе не Слово, как перевели его в Евангелии от Иоанна (I, 1—5), и не Verbum, как перевел это слово св. Иероним. Перевод слова мужского рода словом рода среднего считался катастрофической ошибкой у ранних переводчиков с греческого. Обычно они подыскивали слово того грамматического рода: этого требовала символика текста. Доходило до невероятной виртуозности: Иоанн Экзарх в X в. при переводе греческого слова ??????? сочинил новое выражение потокъ, чтобы не смешивать грамматические роды употреблением слова р?ка.
Слово ????? к моменту составления и переводов Четвертого Евангелия накопило уже до тридцати значений: ‘изреченное’, ‘суждение’, ‘определение’ (философский термин), ‘предсказание’, ‘постановление’, ‘повеление’, ‘условие’, ‘обещание’, ‘предлог’, ‘доказательство’, ‘известие’, ‘предание’, ‘право говорить’, ‘тема разговора’, ‘разум’, ‘мнение’, ‘значение’ и т. д. и только в последнюю очередь — ‘слово’, значение, которое получило распространение как новое, но весьма удачное. Это значение — гиперизм, охвативший множество других значений слова и потому удобный в культурном обиходе. Внимание останавливается на двух линиях выражения гипонимов: проблема «речи» и проблема «мысли» одинаково выражаются старинным греческим словом. «Задумано — сказано», «сказано — сделано» — и все это в одном слове: ?????. Между прочим, славяне в X в. такое же единство мысли, слова и дела передавали новоизобретенным словом вещь, которое в (древне)русское словоупотребление ввели веком позже монахи Киево-Печерского монастыря [Колесов 2004: 537—549].
Таким образом, «учитывая семантический диапазон греческого ?????, лучше всего было бы для перевода его на русский язык выбрать из его значений то, что диктуется общим смыслом первых строк Евангелия от Иоанна, а именно: причина, основа, основание. Итак, приняв во внимание еще и это значение, следовало бы перевести евангельский текст приблизительно таким образом: „В начале была основа и она была соотнесенной с Богом и основа была Богом. Она была вначале соотнесенной с Богом. Все возникало из нее, и без нее ничто не возникало“. Можно сказать, что в данном тексте логос — основа, первооснова, причина, первопричина — понимается как аристотелевская «движущая сила», как двигатель, давший толчок для сотворения мира. Различие между аристотелевским пониманием этого двигателя и христианским пониманием логоса-первопричины заключается в том, что логос не только был причиной сотворения мира, но и продолжает действовать в нем» [Белецкий 1993: 106].
Из этого следует, что более удачными эквивалентами греческого ????? могли бы быть латинское ratio и славянское вещь в исконных их значениях.
Именно эти слова всё чаще стали употребляться в богословских толкованиях евангельских истин. Именно они обладали смыслом «основание в слове и деле». Быть может, это уберегло бы слово вещь от того семантического падения, в каком оно находится ныне.
Любопытно, что в Древней Руси Логос и слово в многочисленных контекстах определенно различались, хотя и были обозначены одним и тем же знаком: Слово и слово. Такое положение находим у плодовитого писателя XII в. Кирилла Туровского, который четко различает «два слова в одном»: Слово как Логос представлено как синоним лексемы Бог, а также как словесное выражение мысли в традиционных сочетаниях типа «слово Божье», «Господне слово», «евангельское слово», «пророческое слово». Наоборот, слово как речь, дар речи, лексема относится к людям, в том числе и к самому автору. Все наталкивает на мысль, что «слово» во втором значении больше связано именно со словом, чем с разумом, не соотносясь с «французским» смыслом «рацио»; ср. выражения типа словесьные овцы, словесное стадо, словесные уньцы и т. д. В символическом обозначении людей (овца бо есмь словеснаго ти стада и др.). Поскольку перед нами устоявшиеся формулы речи, можно предполагать, что такое значение слова было обычным.
Возвращаясь к началу наших рассуждений, признаем, что так сходятся концы: Ratio и ????? суть синонимы одинакового смысла, но различных значений, хотя проявляется это только в контексте Евангелия. В действительности же эти два термина интеллектуального действия разошлись кардинально, создав несопоставимые и даже противоположные по направленности ментальные энергии. Ratio как основание рассудочной деятельности, Логос как интуитивная первооснова мира, которая «продолжает действовать в нем», порождая различные «логии» науки. Однако, сводя значения обоих терминов воедино, мы получаем первобытную точку их соединения. Логос-рацио есть основа основ ментального сознания на уровне подсознательного, это нечто, ускользающее из мысли, поскольку одновременно есть и не-есть, здесь и не-здесь, сейчас и не-сейчас. Современная когнитивистика присвоила этому Нечто-Ничто новое имя — концепт, тем самым переводя энергию божественного Слова-Логоса на мирской уровень логической единицы сознания.
Что же касается слова verbum, то св. Иероним напрасно воспользовался им для перевода греческого ?????. В отличие от славянского слово латинское обозначало именно ‘слово, выражение’, ‘изречение, поговорка’, просто ‘болтовня’, а позже ‘глагол’ как часть речи. Мартин Хайдеггер был прав, сопоставляя «логос» с «рацио».
Слово и ????? также не совпадали в значениях. В греческом термине идея разумности, ума преобладает, а в славянском характерны значения духовного, а не разумного знания; в греческом подчеркивается личная возможность человека распоряжаться своим «логосом», а в славянском указывается зависимость личного мнения от общественного суждения. Этим отличается русская ментальность от западной.
Тем не менее трансцендентность концепта ощущается всеми, по этой причине никак не удается уловить его мистическую сущность, дать ему общепризнанное определение. Быть может, это и хорошо, по крайней мере это дает возможность очень многим старателям на данной ниве создавать многочисленные диссертации, подменяя словом «концепт» самые разные термины, не столь модные и маловостребованные.
Наиболее точным будет определение апофатическое, «утверждение отрицанием»: концепт — это не образ, не понятие, не идея, не значение, не смысл... что же?
Овеществленный Логос?
Остаюсь в убеждении, что «концепт» есть зерно первосмысла (conceptum) [Колесов 2002], мистически зашифрованное в слове, и, чтобы постичь его, необходимо собрать все оттенки смысла, распавшегося то ли при падении Вавилонской башни, то ли в результате многовековых хождений людей по лику Земли.
И тогда встает вопрос: знаменем ли общего концепта создавалась нация — или воссоздание нации направляло движение мысли к выбору тех смыслов христианского символа, которые стали национальным концептом?
Разрушение единства
Нет ничего общего между разными народами Европы, которые мы по своему недомыслию объединяем в общем противопоставлении русскому Логосу — как «народы Рацио». Известны характеристики немца, данные французом, как и наоборот. «Другие части света имеют обезьян, Европа имеет французов» — это Шопенгауэр; «Национальная заслуга Франции — женщина» — это Кант. Владимир Одоевский называл англичан «европейскими китайцами». Французы не оставались в стороне: «Француз имеет чувство своего права, немец — своей работы»; француз более скор и точен, активен и более счастлив, чем немец; француз знает, немец может [Фуллье 1896: 123] — и не будем множить столь ярких выражений.
В основе различий, собиравшихся веками, множество факторов. Розанов [1990а: 180] писал: «Как католицизм есть романское понимание христианства и протестантизм — германское, так православие есть его славянское понимание. Хотя корни его держатся в греческой почве (мы, впрочем, должны помнить, до какой степени эта почва в первые же века нашей эры, в эпоху передвижения народов, пропиталась славянскими элементами) и на этой же почве сложились его догмы, но весь тот особенный дух, которым он светится в истории, живо отражает на себе черты славянской расы». Таковы религиозные ограничения русской ментальности в ее отличие от западной. Но Бердяев (в работе «Христианство и классовая борьба») добавлял: «Исторически русское православие было очень связано с купечеством и мещанством, французское католичество с аристократией, немецкий протестантизм с буржуазными классами и национализмом. Но человеческая личность аксиологически выше класса, как выше государства и хозяйства». Таково второе ограничение русской ментальности в отношении к ее корням. И «если, следовательно, католичество выказало свойства нетерпимости и насильственности, то, конечно, не могло ниоткуда заимствовать их, как из характера народов, его исповедующих» [Данилевский 1991: 180]. Бумерангом все рассуждения возвращаются к ментальности («характер народов»).
Далее Н. Я. Данилевский [Там же: 267] говорит: «Самое понятие об истинно русском до того исказилось, что даже в счастливые периоды национальной истории (как внешней, так и внутренней) русским считалось нередко такое, что вовсе этого имени не заслуживало».
Попробуем определить причину этого ускользающего из внимания отличия русскости на фоне европейских народных черт, как они сложились в истории и в близком соседстве. И тут очень много справедливых высказываний, на которых построим наше изложение. И не станем забывать: что «непременно нам кто-нибудь да гадит: то немец, то поляк, то жид» [Шелгунов 1895: 104]. Сказанное иронически-спокойно может быть обращено и в сторону Запада: и тем, кто на Западе, вечно «гадит» русский. Вот только русский от этого больше страдает: «Англичанин умеет открываться, не отдаваясь, а русский если откроется, то тем самым и отдается, а после будет страдать» [Пришвин 1986: 433]. Или вот еще: «Посмотрите на немца, который внес свою лепту в общество подания помощи бедным! Он больше ни гроша не даст нищему — хоть умри тот с голоду на его глазах — и чувствует себя правым. Это — символ справедливости: уплатить умеренную пошлину за право всегда пользоваться санкцией высшего начала. Оттого справедливость в ходу у культурных, расчетливых народов. Русские до этого еще не дошли. Они боятся обязанностей, возлагаемых на человека справедливостью, не догадываясь, какие огромные права и преимущества дает она. У русских — вечные дела с совестью, которые ему обходятся во много раз дороже, чем самому нравственному немцу или даже англичанину его справедливость» [Шестов 1991: 30]. Но почему бы не сказать и наоборот: «Западные европейцы забыли внутренний, нравственный, душевный мир человека, к которому именно и обращена евангельская проповедь. Последнее и есть, как мне кажется, ахиллесова пята европейской цивилизации; здесь корни болезни, которая ее точит и подкапывает ее силы» [Кавелин 1989: 465].
Сколько голов — столько и мнений, сколько народов — столько и типов ментальности. Странно только то, что каждый о себе помышляет как о славном и верном, а другую ментальность поносит за вредную «неправильность».
Познание
«Высшей добродетелью в Московии было не знание, а память. Где нужно было сказать „Я знаю“, говорили „Я помню“ [Биллингтон 2001: 93] — и это не единственная «клюква» в книге досточтимого историка. Он говорит об уважении к традиции, но традиция вовсе не «память», это воссоздание прошлого в настоящем. На самом деле было другое: на Руси полагали, что знание — это сила, а вот познание греховно.
Русские философы глубоко проникли в суть национальных характеров европейских народов. «Германская мысль погружается в мистику и теософию, эмпиризм зарождается в Англии, рационализм — во Франции. Эти три философии расходятся между собою, и каждая стремится подкопать основания двух других» [Трубецкой 1908: 17]. Национальное своеобразие философского взгляда определяется типом личности, воспитанной в данной философской среде: «Современная философия в своих противоположных направлениях развивает один и тот же протестантский принцип абсолютизма личности. Универсализм германского идеализма, точно так же как индивидуализм английского эмпиризма, представляются двумя моментами этого принципа, одинаково необходимыми, одинаково абстрактными и, по-видимому, непримиримыми между собою» [Там же: 6]. Общее у них есть: во всех этих странах прежде всего изучают национальную философию, которая обобщает знания о национальном типе мысли. А России всегда стремились навязать смешение «этих трех философий» с полным устранением собственной, русской. Результат — известен.
Но не только философия, но и экономика «очень зависит от национального психологического типа», писал Николай Бердяев. Иван Киреевский задолго до него понимал, что «французская образованность движется посредством развития господствующего мнения, или моды; английская — посредством развития государственного устройства; немецкая — посредством кабинетного мышления. Оттого француз силен энтузиазмом, англичанин — характером, немец — абстрактно-систематическою фундаментальностию. Но чем более, как в наше время, сближаются словесности и личности народные, тем более изглаживаются их особенности» [Киреевский 1911: 140]. Сказано полтора века тому назад. Теперь — совершенно сблизились.
Заметно влияние национальной ментальности на науку. Ментальный тип определяет стиль мышления, способ доказательства и стиль организации научной деятельности. Выбор проблем и метод исследования связан с особенностями языков и традициями научного исследования (прагматический интерес или идеальная ценность объекта). Национальный выбор проходит по линии разграничения «материализм — идеализм», «рационализм — интуитивизм», «агностицизм — мистика» и т. д. [Марцинковская 1994: 57—58]. Хорошо известной особенностью русской науки является вторжение в нее чужеродных ментальностей весьма агрессивного склада, которые стремятся подавить русские формы научного освоения мира. Автор указанной книги говорит, что изучение психологии (например) — это момент самопознания, сложения ментальности, а в России эта наука стала местом приложения интеллектуалов из еврейской среды. Они пытаются понять русскую культуру, в которой вынуждены существовать, но незаметно приписывают ей свои собственные черты. То же происходит во всех научных сферах, где возможно изучение ментальности, и не только в России, — в лингвистике (в филологии вообще), в философии, в истории, в социологии. Искаженные представления о русском (французском, немецком и т. д.) выдаются за проявления собственно национальной ментальности «аборигенов», а затем порицаются как злое начало нации.
Национальное своеобразие по отмеченным особенностям научного мышления неоднократно обсуждалось в русской литературе. Вот, например, «немцы привыкли читать в поте лица тяжелые философские трактаты. Когда им попадается в руки книга, от которой не трещит лоб, они думают... что это пошлость» [Герцен 1954: 314]. Даже «французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью», утверждает писатель. В «Былом и думах» Герцен особенно восхищен английской ментальностью. Так, «англичане — дурные актеры, и это делает им честь». Да и вообще, «страшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длинный срок, это — задача. Эта прочность сил и страстная привычка работы — тайна английского организма, воспитания, климата». Любопытно обращение писателя к характерной для англичан эмпирической тайне вещного. «Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец тоже пьет, только пиво да еще пиво за все прочее, но ни англичанин, ни француз, ни немец не находятся в такой зависимости от желудочных привычек, как русский» (по-видимому, не всякий русский). Но самая выразительная черта англичанина — это его консерватизм и любовь к политике — то, чего русский человек на дух не выносит. «Француз, действительно, во всем противоположен англичанину: англичанин — существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное, француз — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два параллельных развития, между которыми Ламанш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет — в лавку надо» — вот почему и у нас в чести француз: характером к нам близок, а англичанин — нет. Слишком холоден. Интересно и наблюдение Герцена над американцами: «Американцы — более деловые, чем умные; они станут счастливее, но не будут довольны». Всё это — «Былое и думы», думы о нашей современности.
Особенно часто обсуждается германский склад характера. Для Петербурга, где немцев много, это особенная тема.
«Особенность германского мира не в том, что ему чуждо само существо церковной религиозности, а в том, что ее формы остаются для него в значительной степени внешними» [Карсавин 1918: 115]. Дух германской расы «повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к частному, особенному, индивидуальному. В противоложность обнимающему взгляду романца взгляд немца есть проницающий», тогда как «пренебрежение к человеческой личности, слабый интерес к совести другого, насильственность к человеку, к племени, к миру есть коренное и неуничтожимое свойство романских рас» [Розанов 1991а: 175, 174]. Что нам «немцы несколько докучают, понятно. Есть что-то в них плоховатое, именно как Плещеев говаривал: всякий немец по естеству туп. Впрочем, все же лучше сумасбродных французов, хотя эти веселей» [Хомяков 1912, 8: 94]. Михаил Пришвин понимал дело так: «Немец способен на всевозможное и в этом лучше всех во всем мире. Русский в возможном недалеко ушел, но он как никто в невозможном (,,чудо“)» [Пришвин 1986: 559].
Русские люди тем хороши, что — разные, говорил Пришвин. То же можно сказать и о немцах. Немцы — разные, в том числе и немцы в России. С одной стороны, «и Шлецер, и Бирон с одинаковым презрением к России и почти с одинаковым корыстолюбием с истинно немецкой наглостью» [Коялович 1994: 163]; с другой — «на Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер, к сожалению не умею назвать немецкую фамилию Востокова (Остеннек. — В. К,). И поразительно, что они все не только потеряли „свое немецкое“, придя на Русь, с каковою потерею, естественно, потускнели бы. Этого не случилось, а случилось другое: они расцвели, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое ,,тело“), но пропитав все это „женственною душою“ Востока... В конце концов, оставили и свою религию, приняв нашу восточную, — без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами» [Розанов 1990: 333].
Также и критическое отношение к знанию-пониманию у разных народов облекается в своеобразные формы.
«Француз — догматик или скептик, догматик на положительном полюсе своей мысли и скептик на отрицательном полюсе. Немец — мистик или критицист, мистик на положительном полюсе и критицист на отрицательном. Русский же — апокалиптик или нигилист, апокалиптик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном полюсе. Русский случай — самый крайний и самый трудный... Француз и немец могут создавать культуру, ибо культуру можно создавать догматически и скептически, можно создавать ее мистически и критически. Но трудно, очень трудно создавать культуру апокалиптически и нигилистически. Культура может иметь под собой глубину, догматическую и мистическую, но она предполагает, что за серединой жизненного процесса признаётся какая-то ценность, что значение имеет не только абсолютное, но и относительное» [Бердяев 1991: 64].
Не оставим это крайнее суждение без уточнений. Владимир Соловьев того мнения, что «философский скептицизм направляет свои удары против всякого произвольного авторитета и против всякой мнимой реальности. Философский мистицизм есть лишь чувство внутренней неразрывной связи мыслящего духа с абсолютным началом всякого бытия, сознание существенного тождества между познающим умом и истинным предметом познания. Совсем не таковы те крайние настроения, которые характеризуют наш национальный ум. Русский скептицизм мало похож на здравое сомнение Декарта или Канта, имевших дело с внешнею предметностью и с границами познания; наш „скепсис“, напротив, подобно древней софистике стремится поразить самую идею достоверности и истины, подорвать самый интерес к познанию: „Всё одинаково возможно, и всё одинаково сомнительно“ — вот его простейшая формула. При такой точке зрения наш ум, вместо самодеятельной силы, превращается в безличную и пассивную среду, пропускающую через себя всякие возможности, ни одной не отталкивая и ни одной не задерживая. Но подобным образом и наш национальный мистицизм стремится не к тому, чтобы поднять силу духа сознанием его внутреннего безусловного превосходства над всякою внешностию, а, напротив, ведет к совершенному уничтожению и поглощению духовной личности в том абсолютном предмете, который она над собою признала. Эта безвозвратная потеря себя в том, что поставлено выше себя, выражается, смотря по различию частных характеров, то в невозмутимом равнодушии и квиэтизме, то в самоубийственном изуверстве, породившем известные секты в нашем народе (самосжигатели, скопцы и т. д.)» [Соловьев V: 91—92]. Страстность русского характера влечет его за пределы взвешенного «среднего», вполне достаточного для познания «внешней предметности»; то, что «поставлено выше себя», заносит русский ум за пределы «вещности», искушая разум на поиски крайних сил бытия.
Хорошо это или плохо — особый вопрос. Но что верно — никакой материальной выгоды от этих метаний духа русский ум не ищет. Наоборот, «английская эксплуатация есть дело материальной выгоды; германизация есть духовное призвание. Англичанин является пред своими жертвами как пират, немец — как педагог, воспитывающий их для высшего образования. Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их политическом людоедстве: они направляют свое поглощающее действие не на внешнее достояние народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец — с идеей: один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность» [Соловьев V: 7]. Затем Соловьев [V: 39] подтверждает мнение о том, что теория видов Дарвина могла возникнуть только в уме англичанина, как и политическая экономия Адама Смита. На самом же деле идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда такое призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение [Там же: 8]. А служение и есть доминирующая черта русского национального характера.
Владимир Соловьев [1988, I: 113] сравнил слово сам в нескольких языках; слово важно для понимания пределов свободы личного действия. Действие всякого животного идет «из самих себя», но это не есть еще свобода. Волчок вертится сам, но это не значит, что он производит движение. Сам — в смысле один «силою прежнего толчка». Такое значение находим у французского tout seul. В польском языке за словом sam сохраняется такой «отрицательный смысл — один без других» (samotny — одинокий). Но в русском и германских языках возможны оба смысла, причем если дан положительный (собственная внутренняя причинность), то отрицательный (отсутствие другого) предполагается, но никак не наоборот. Самоучка — сам причина своего образования — и учился один, без помощи. Так и в немецком Selbsterziehung или английском selfhelp. Но если речь о том, что вертел движется сам — selbst, by itself alone, — то слово употреблено в отрицательном смысле.
В заключение будут нелишними слова Данилевского [1991: 197] о том, что в русском человеке огромный перевес «общенародного русского элемента над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то между тем, как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто — в негодную тряпку».
Вот основная причина твердости общественного в его отношении к индивидуальному. Вот основание русского национализма.
Хохол та москаль
Зарубежные исследователи часто смешивают украинскую и русскую ментальности. Так, говоря о Гоголе и Тарасе Бульбе, «запорожском казаке XV в.» (!), рассуждают о «русском национальном характере» [Драйзин 1990: 11]. От полного смешения особенностей двух восточнославянских народов спасает только то, что авторов такого рода трудов на самом деле интересует совсем иное — прежде всего «гоголевский еврей Янкель» и связанный с этим образом казацкий погром предателей, который, разумеется, также представлен «как выражение русского национального духа» [Там же: 25]. Но Янкель понимает только прямое значение слова продать (to sell), тогда как для казаков это еще и предательство — продаться [Там же: 29], но для нашего образованного автора все это лишь «лексические нюансы», к которым не стоит и прислушиваться. Конечно, когда украинское слово люлька переводишь английским pipe, то в конечном счете (обратным переводом) получается слово трубка, а это, конечно, знак уже русской ментальности. Разумеется, и казацкая отвага холодному сердцу изыскателя кажется «stupid, and even suisidal» (сумасшедшей и даже самоубийственной). Но что ожидать от человека, который в дружинном братстве видит «скрытую гомосексуальность» (тут же батюшка самого Гоголя — с. 14), а всякий еврей предстает как объект сексуального домогательства [Там же: 38] — коронная тема современных сочинителей подобного типа, помешанных на психоанализе.
Это всего лишь один пример, но пример выразительный. Он показывает, насколько живы старые убеждения в том, что „малорусская“ и „белорусская“ культуры будут нарочно создаваемы, ибо теперь «их еще нет» [Струве 1997: 286, 288]. Насколько это верно — просмотрим выводы специалистов (сводка мнений: [Лысый 1995]).
И. Лысый показывает, что в ментальных антиномиях украинец предпочитает первый выбор, хотя отдельный лицам не чужд и второй: интроверт—экстраверт в поведении, женственность—мужественность в характере, сенсорика—интуиция в восприятии, иррациональность—рациональность в мышлении, нестабильность—стабильность в социуме и т. д. Заметно почти полное совпадение с набором русских ментальных черт, но с одним важным различием: у украинца наблюдается «перевес личности над общинностью» [Лысый 1995: 43]. Украинская ментальность амбивалентна («амбивалентность — парадигмальная черта украинцев» [Там же: 52]), но она исходит из средних значений, тогда как русская основана на несоединимых крайностях.
Многие черты украинской ментальности, как она показана в источниках, действительно совпадают с русской, особенно те, которые восходят к временам общности двух народов. Стремление к равенству, борьба с насилием, оппозиция всякой власти (она всегда чужая, навязанная), что влечет к бунтарству как форме самовыражения; равнодушие к важным общим делам, но упорство в мелочах.
Нестабильность проявляется в инерции, в апатии, пессимизме, беспокойстве, все это — при склонности к формализму и бюрократии. «Родная хата» — стереотип интроверта, замкнутого на себе, но при отсутствии консерватизма; наоборот, украинцу свойствен переход к новым формам. Сенсорный тип характера определяет способность к кропотливой работе (особенно на земле) — украинец вообще все делает собственноручно и делает хорошо («свойственна деловая мотивация и некая прагматичность характера»). Этически украинец сентиментален и лиричен: «стихия любви» — это и сила, и слабость украинца. Иррационализм слегка подавляет логический фактор, а мифологические представления поддерживают «склонность к медитации»: «...в массовом сознании мифологемы часто теснят и здравый смысл». Впрочем, иррациональность мышления исключает чувство самосохранения: как и русские, они не учатся на собственном историческом опыте. Экстернальность психики определяет установку на самооправдание при недостатке самокритичности, что связано и с установкой на личностное начало. При этом отмечают, что личностное начало украинца обращено не к эгоизму и обособленности, а к персональности («межэтническая толерантность, альтруизм, милосердие»). Склонность украинца к духовному уединению совпадает с аналогичным русским стремлением к одиночеству, развивающему «стремление к целостности мира человека в его личностном постижении». Это важное отличие от западного человека: украинская тяга к индивидуализму ведет не к экспансии вширь, а к развитию личности вглубь. Тут также находим сходство с русской ментальностью, но это влияние средневековых, а не древнерусских (совместно русских и украинских) черт. Авторы подчеркивают украинское благородство как остаток казацкого рыцарства (у русских наличие рыцарства отрицается) или влияния «глубокой религиозности». В насмешливости к вещам и к людям, в ироничности и самоиронии видят «высшую меру благородства души» украинца, всегда жившего в условиях «аристократической демократии» (слишком сильно сказано!).
Краткий перечень черт украинской ментальности недостаточен для окончательных выводов о различии между русским и украинцем. У них много общего, но ясно, что на юге Руси давление инородных культур было сильнее, тогда как на севере (у великороссов) этническое окружение дольше сохраняло особенности славянской ментальности. Суровые условия жизни, например, требовали единения в обществе и отвергали путь индивидуальных поисков.
Русский француз
«Франция любит именно это — золотую середину», и ее культура — культура середины. Француз устроен «двухмерно-поверхностно»; он мастер формы, не мистик по жизни, не романтик, дух аналитика и радость от нормирования у него в крови [Шубарт 2003: 245—246]. Риторика — у француза, герменевтика — у немца, вдохновение — у русского, и всё это чуждо англичанину. Француз методичен, экономен, мелочен, малодушен — «за милые сердцу идеи француз отдает жизнь, но не сбережения» [Там же: 248]. Он взбудоражен и пылок, причем «одинаково всё, что он говорит, кристально ясно и абсолютно логично» [Зэлдин 1989: 16]. Существо социальное, в обществе француз — индивидуалист, он честолюбив и тщеславен, с чувством превосходства относится к другим народам, но при этом всегда вежлив (его основная добродетель) — душой он «теплее немца». У русского теплый — почти что горячий и как последний противопоставлен холодному; у француза tiede столь же холоден, как и froid, и оба они противопоставлены горячему (chand) [Гак 1998: 231]. Уже по этой подробности видно, насколько резко русская ментальность противоположна французской.
Такова самая общая характеристика — как оценивают француза извне, главным образом его элиту. Но как народ (мы видели это) французы неодинаковы. Француз рас-траи-вается. Даже средний француз — месье Дюран — не полностью национальный характер, и совокупность французских типов вовсе не аккорд, а творческий унисон в совместном явлении типов. Французская нация (как именно нация) этнически сборна: и кельты, и галлы, и франки.
Все представленные особенности — проявление «галльского духа», а кроме того и другое: «инстинкты равенства, храбрость, честь», презрение к смерти до упоения, почтение к женщине, почитание патриархов. Одно с другим сходится и сливается. Исторически важным — необходимым! — оказалось и усреднение типов, воплощенных в культуре и скрепленных языком.
«Истинная физиономия французского духа» описана Фуллье [1896]. Француз легко возбуждается (темперамент) — позыв к приятным и ужас перед печальным впечатлением дает внезапные проявления экзальтации. Общительно-лучезарный тип («уединение нас тяготит»), который будущим жертвует в пользу настоящего и потому — оптимист. Насмешлив и весел (в отличие от испанца и итальянца). У него взрывчатая воля, прямолинейный характер, внезапность решений и прямодушие («притворство требует размышлений») — он откровенен и искренен. Француз решителен («легкость есть наш первый интеллектуальный дар»), но в подробности не вникает (быстро схватывает целое и исходит из ситуации). Французу присуща любовь к ясности («мы склонны ко всему, что упрощает дело»), острота восприятия, чувственность (чувства управляют «природой образов»), хотя «мы больше рассуждаем, чем изображаем». Французский рационализм особенный: «мы неразделимо догматики и практики», и это в отличие от немцев, разум которых допускает существование под-логического и сверх-логического (смешение натуралистического и мистического). Француз нетерпелив и нетерпим к тому, что уклоняется от господствующего мнения. Ему присущ «талант дедукции», и геометрия — его бог. То, что называют здравым смыслом, скорее свойственно кельтам и славянам, француз же нацелен на позитивный интерес, поскольку слишком часто здравый смысл вредит оригинальности. Но всё это вместе, и прежде всего чувственность, направленная разумом, — это вкус.
Современный француз отличается от этого типа. Столетие не прошло зря. После революции 1965 г. среднего француза вообще не существует [Тернавский-Воробьев 1997]. Есть типы: материалисты, активисты, ригористы, эгоцентристы, «раздвоившиеся» — термин определяет суть типа. Среди «раздвоившихся много молодежи: двойная жизнь — личная (удовольствия) и видимость общественной. Социологи описали признаки различения стремительно менявшихся ценностей. В эпоху крестовых походов — знатность, честь, храбрость, верность и набожность. В эпоху Возрождения — знатность, верность, храбрость, любовь к искусствам и к греческому языку. В буржуазные революции — богатство, прибыль, карьера, «дело». Ценности французского индивидуума — собственность, вкус, бережливость, независимость, покой, жертва будущим в пользу настоящего (кое-что остается из прошлого). Французские добродетели — изысканный вкус, чувство меры, изящество, остроумие, находчивость, толк в жизни, блеск, тщеславие, расчетливость, черствость, напыщенность [Там же: 151—152]. Всё как у всех, но с оттенками, которые сохранены от прошлого. Всё идеальное — в прошлом, и от него остались идеи, которые правят французом. Вот «французский недуг — бюрократия. Англичанам удалось избежать его благодаря более развитому гражданскому сознанию, позволившему им сохранить контроль над собственными делами, не отдавая все в руки чиновников» [Зэлдин 1989: 143]. Но бюрократизм — порождение немецкой аккуратности; и много других особенностей менталитета получили французы за эти столетия от других (кое-что уже указано).
Англосаксонский тип
Если француз похож на русского хотя бы отчасти, то англичанин совершенно противоположен ему. Русский доверчив — англичанин невозмутимо спокоен (это склад души). В его речи важен намек и подтекст, ему свойственна склонность к недосказанности. Непритязательность в еде, пуританство, сдержанность — но притом себялюбие и (вот оно!) склонность к золотой середине без всякого шараханья [Шубарт 2003: 233—244; см. также: Овчинников 1987]. Не ища никаких закономерностей, англичанин «смело встречает каждый отдельный случай», потому что он — человек опыта; ценит причастность к клубу, уважает очередь, следует идеалу свободы, но никак не равенства. Нелюбовь к норме влечет его к прецедентам, и, в целом, скорее «демонстрирует черты женственного мироощущения» [Шубарт 2003: 234]. Русский воспитан в семье и в общине, англичанин — в «камерах». Английский психолог «несвободу» русского видит в том, что уже с младенчества того тесно пеленают (на столе на спине...), а затем еще воспитание и babushka [Горер 1962: 100]. Прощение грехов освобождает от психического давления, и чувство раскаяния для русского ценней невинности. Англичанин с детства живет в «заведении», и потому ему остается право «жить для себя, но — как все!»: «типовой индивидуализм». Язык соответствует социальному выбору поведения.
В общении участвуют три лица:
1-е лицо берет проблему на себя: он говорит;
2-е лицо — вовлекает в ее решение другого, который слушает;
3-е лицо — уже уклонение в сторону, но о нем-то и речь.
В русском разговоре частота употребления лица такова: 3—2—1, во французском наоборот: 1—2—3. Русский говорит о ком-то, француз — о себе. Для русского я без ты просто нет, он нуждается в диалоге, чтобы совместно обдумать вопрос или дело, тогда как француз мыслит в своей мысли и ни в ком не нуждается. Англичанин напрямую связан с он, у него последовательность иная: 1—3—2. У него любой контакт указывает на социальную дистанцию (не мешать свободе другого: свобода важнее равенства!); у русских наоборот — навязать себя в помощь (равенство важнее свободы). У англичанина эмоционально-волевая сфера отчуждения максимальна:

То есть у русского опосредованно о том (происхождение местоимения 3-го лица), а у англичанина это местоимение — от определенного артикля, и он говорит о «них». «Политическое мышление англичан во многом руководствуется словом они» [Оруэлл 1992: 214]. Указанием на предмет речи русский определяет, англичанин оценивает. В русской речи частотны слова человек, дом, жизнь, в английской — я, человек, хороший. Может быть, поэтому английский язык в наивысшей степени отражает принцип учтивости и любезности, демонстрируя специфическую культурную традицию, подчеркивающую культурную ценность как индивидуальной, так и личной независимости [Вежбицка 1991: 20].
Англичанин рационалист, но с душком эмпирика. Он номиналист от рождения. Это видно даже по словам в народных поэтических текстах. Там, где в русской песне представлен символ, англичанин руководствуется готовым понятием [Петренко 1996: 77]. Например, в описании человека русский скажет о лице — белое, кудри — вьются, очи — черные; английская песня опишет иначе: лицо — цветущее, румяное, о волосах — кудри, глаза — вращающиеся, а ухо, губы и нос лишены своих признаков у обоих.
Человек должен знать и правила, и права, потому что англичанин — индивидуалист. Он ищет только возможного, являясь мастером в искусстве взаимопонимания. Все четко делятся на профессионалов и дилетантов, причем любитель почитается больше, чем профи: джентльмены и игроки — страна садоводов! Чашка чая в пять часов — это свято, как и некоторые ритуалы жизни; стесненность, исключающая непосредственность. Тонкая особенность: чиновники в Англии — самые вежливые в мире. А вот «образованных на британских островах нет» — там готовят джентльменов. «В понятие „британец“ входит cant — пользующееся дурной славой лицемерие» [Шубарт 2003: 242]; англичане согласны с этим: «английское лицемерие и пуританизм (ханжество, аскетизм, стремление гасить чувство радости)», даже движение за трезвость — результат поголовного пьянства [Оруэлл 1992]. Национальная английская идея — мировое господство [Шубарт 2003: 243], что также известно. «Англичане сказали, что грабить мало — нельзя, а помногу — поощряется. Это европейский строй» [Гиппиус 1999, 2: 348].
Тут небольшая поправка. Оруэлл справедливо говорит, что представления об англичанине основаны на характеристике имущих классов: «высокие и долговязые» англичане и в Англии редкость. Иностранец основными чертами англичан считает «их глухоту к прекрасному, благонравие, уважение к закону, недоверие к иностранцам, сентиментальное отношение к животным, лицемерие, обостренное восприятие классовых различий и одержимость спортом» [Оруэлл 1992: 198]. Другие классы рисуют иной тип англичанина, обладающего склонностью помогать слабым и беззащитным (всегда берут сторону жертвы), неприязнь к любому насилию, уважение к умеющему проигрывать, и т. д. Сообразуясь с этим, Оруэлл заключает свое эссе: вдруг мысль «осенит: а существует ли вообще „английский характер“?».
Мысль, осеняющая многих и относительно других форм ментальности.
Слово и вера
Всё снова и снова возвращаемся мы к теме, которая исключительно важна для русской ментальности в ее отличии от западной. Что вообще преимущественно «народное» у нас? что — русскость? Ответ дает любое событие жизни. Вот художественные произведения у нас, и fiction (измышление) — на Западе. Для русского человека важен образ, т. е. пре-ображ-енный в идею реальный человек, который подчас воспринимается как более реальная личность, чем сосед по дому. Образ в слове — столь же реален, как сама жизнь, и вот вам «одна из особенностей русского народа — нам нужно СЛОВО! Нам нужен порыв. Не столько домик с газончиком, сколько порыв и вера в то, что у нас есть будущее» [Моисеев 1998: 408].
Не вера — народное (христианство интернационально), а язык, который соединяет веру и жизнь, оправдывая первую и укрепляя вторую. «Ведь в самом деле, если русское — то же, что православное, а православное — то же, что вселенское, то ничего индивидуального, специфического в русской национальной задаче и в русской национальной физиономии быть не может. Отождествляя русское с общехристианским, славянофилы должны были в конце концов растопить народное в универсальном; это и сделал Соловьев, у которого утверждение русского национального мессианства вполне последовательно перешло в отрицание всяких особенных черт русской народности» [Трубецкой Е. 1913, 1: 70].
Но первые славянофилы народное видели не в христианстве, хотя бы и православном, а в слове, т. е. в конечном случае — в Логосе.
Отсутствие русского слова в русском деле славянофилы рассматривали — и, может быть, справедливо — как нарушение гармонии действия: «Этих немецких слов, этих названий, вовсе бессмысленных для русского уха и не представляющих ничего русскому уму, набрались тысячи!» [Хомяков 1988: 354]. Бессмысленных в звучании, ничего не представляющих уму — это то самое отсутствие внутреннего словесного образа, который немедленно при восприятии порождает сеть сопутствующих ассоциаций и помогает справиться с делом, каким бы оно ни было. Если вам произнесут кучу «немецких слов» вроде киллер, менеджер или ангажированность, вы не сразу сообразите, что речь идет об убийце, жулике и продажности, — а потом уж и поздно будет что-нибудь соображать. Исторические беды России показали, что интуиции наших предков были более точными и положительными, чем «разум» экономистов, политиков и аналитиков, начинавших очередной разор и развал страны. Интуитивное чувство единства, цельности и ценности национального просто вопияло против раздела-разграбления в пользу киллеров и менеджеров, однако почему-то доверялись «разуму» интеллигенции. И разум, и интеллигенция надолго дискредитировали себя.
Понятно, что враждебные народности силы боролись прежде всего с русским словом; и силы эти — не обязательно иноземцы. Конечно, де Кюстин мог сказать: «У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. Россия — страна фасадов. Прочтите этикетки — у них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей» [Кюстин 1990: 94]. Это чисто французский взгляд на вещи: «Неистощимое богатство их длинной цивилизации, — писал Герцен, — колоссальные запасы слов и образов мерцают в их мозгу как фосфоренция моря, не освещая ничего». Накладывая свои слова на чужие понятия, маркиз не в состоянии понять и оценить другую цивилизацию, отрицая за ней то, что, именуясь тем же словом, значит подчас совсем другое. Не говоря уж о подтасовках, непростительных для логического галльского разума; речь ведь не о врачах, да и врачи на Руси — другие.
Опасение России — вот что движет маркизами, ведь Россия — это «сфинкс, вызывающий опасение. Каждый раз западный европеец снова и снова спрашивает себя: что это за народ? что он может? чего он хочет? чего следует ждать от него? Да и язык этого народа кажется странным и трудным», как трудна судьба говорящего на нем народа; ведь язык — это фонетическое, ритмическое и морфологическое выражение народной души [Ильин 6, 2: 373].
Но и «свои» тут же, и по тем же причинам отрицают русскость в народном. «Интеллигенция еще не продумала национальной проблемы, которая занимала умы только славянофилов, довольствуясь „естественными“ объяснениями происхождения народности (начиная от Чернышевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение национальной проблемы), до современных марксистов, без остатка растворяющих ее в классовой борьбе... Национальное чувство не этнографично, а религиозно-культурно», и интеллигенция, «разрушая народную религию, разлагает и народную душу, сдвигает ее с ее незыблемых доселе вековых оснований» [Булгаков 1911: 213—241]. Интеллигенция потому и переродилась, что под флагом интернационализма вбирала в себя самые разнородные, преимущественно интеллектуальные силы, которые изнутри разрушили фундаментальную идею народности. Оказалось — интеллигенция вовсе и не народу служила-то.
Народное и национальное (опять возвращаемся к мысли) есть реальность и действительность в сложном пресечении различительных линий. Идея национальности — самая поздняя, если судить по изменчивым смыслам слова язык.
Язык объединяет все три ипостаси идеального: веру, народ, государственность. В Средние века язык выражает особенность веры, с XVI в. — государственности, а после XVII в. уже и народа (перенося признаки с термина земля). Это Владимир Соловьев писал: «Что такое русские — в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну а к какому же существительному это прилагательное относится?» [Соловьев 1988, 2: 696]. Имя прилагательное русский, русская относится именно к вере, к земле, к государству, а к человеку — не относится. Человек, как и всё на свете, имеет имя собственное: великорос. Жаль, что простые подмены вроде этой, основанной на незнании русского слова и его истории, русофобы повторяют все чаще, извращая смысл.
Так что проблема языка и сегодня, как всегда в прошлом, есть основная проблема выразительно-народного. Правда, с определенным, но всем известным подтекстом, на котором основана русская символика: русское — это земля, «но без Родины — нет земли», записал когда-то Михаил Пришвин.
Покажем на нескольких примерах, каким образом язык и слово влияют на различие в формах ментальности.
Слово и мысль
Сложнейший вопрос о формах мысли, связанных с национальной ментальностью, сведем к описанию нескольких различий в синтаксисе речи — просто, чтобы показать исключительную сложность вопроса.
«Всякое высказывание мысли с помощью языка обусловлено логически, психологически и лингвистически, — писал известный швейцарский лингвист Шарль Балли. — Обычно очень много говорят о ясности французского языка, при этом чаще всего имеют в виду не столько самый язык, сколько французский образ мыслей» [Балли 1955: 43, 27]. Балли исповедует концептуализм, т. е. в своих суждениях (как и положено французу) исходит из идеи-мысли, поэтому на первом месте у него и является собственно «французский образ мыслей» — логическая сторона дела. Номиналист на первое место поставил бы «лингвистические» основания («логическая философия» — изобретение номиналистов), а реалист — психологические. Однако объективно, в действительности проявления, в каждом языке все три составляющие представлены совместно.
В этом и состоит сложность вопроса и трудность его решения.
Французский язык (раз уж с него начали) ориентирован на сообщение, немецкий — на описание, английский — на указание (предмета), и всё это различные функции любого языка; однако в национальных традициях произошло обобщение той или иной стороны дела.
И в этом состоит другая сложность вопроса.
По своим категориальным и структурным особенностям современные языки выстраиваются по степеням обобщенности логических схем, в языке представленных: английский, французский, немецкий, русский... и русский менее других скован внешними в отношении его логическими формами. С этим сталкивается любой школьник, которому предлагают «разобрать предложение» — русское предложение — по логической схеме, вынесенной из западных образцов; так редко получается, и это сердит западного исследователя, который (которая: Анна Вежбицка) постоянно досадует на особенности русского высказывания, «неправильного» — согласно ихнему (любимое слово Достоевского) канону. Французский и немецкий языки в этом отношении посредине между максимально формализованным английским и язычески свободным русским, но и между ними существуют различия. Различия, отражающие национальную ментальность.
Немецкий язык ориентирован на говорящего («эгоцентричный язык», замечает Балли), а французский — на слушающего. Поэтому французский в большей мере «язык общения», является общественным установлением, которое создано в недрах Французской академии со времен Решилье; «он позволяет передавать мысль с максимальной точностью и минимумом усилий для говорящего и слушающего» [Балли 1955: 392]. Лев Толстой утверждал, что только на французском можно болтать, не затрудняясь в мыслях, потому что «кусочки» мысли уже вделаны в расхожие речевые формулы. Наоборот, «если думать надо» — тут русский или немецкий лучше. Поскольку, верно говорит Балли [Там же: 394], «потребности общения противоположны потребностям выражения», то французский язык (вернее — речь) постоянно упрощается. Хотя французский ближе к свободе, которая наблюдается в английском, он все же не достигает такой свободы (например, во французском сохраняется сослагательное наклонение). Во французском все время происходит сжатие единиц языка на всех его структурных уровнях, от слога до предложения. Более того, независимость и автономия слова утрачивается в пользу автономии синтаксического сочетания (синтагмы), просто потому, что устойчивые словесные формулы неизменными используются в «постоянстве последовательностей». Отказываясь от «атомов»-слов, французский язык создает «синтаксические молекулы» [Там же: 317], для того чтобы «освободиться от неопределенного понятия слова», которое становится простым знаком различения («семантемой»). Французская мысль синтаксична, она возвращается к формулам речи, заменяющим слова, тогда как русская ментальность, наоборот, традиционные словесные формулы «рассасывает» на составляющие текст слова. В поисках точности смысла французский сжимает синтагмы — в поисках истинности смысла русский раскрывает синтагмы. Французский соотносит единицу речи с понятием, русский — с символом (от целого к части). Устремленность французского языка к понятию как основной содержательной форме знака отражена во всем; даже глагол отступает «перед возрастающим засильем существительных», причем и глаголы представляют действие в отвлеченно-понятийной форме [Там же: 378].
«Иными словами, — заключает Балли, — французский язык постепенно склоняется к простому знаку, немецкий — к сложному» [Там же: 217]. Немецкое слово мотивировано исходным словесным образом, тогда как французское слово немотивировано, а ведь произвольный знак «снабжает предметы ярлыками и представляет процессы как свершившиеся факты, тогда как мотивированный знак (немецкого и русского языков. — В. К.) описывает предметы и представляет движение и действие в их развитии. Французский язык — статический, немецкий — динамический» [Там же].
Отношение к понятию различное во французском и немецком (как и в русском). В немецком и русском понятие формируется путем сочетания прилагательного с именем (добрый человек), во французском — обратный порядок слов («прогрессивная последовательность» — table ronde ‘стол круглый’, cheval blanc ‘конь белый’). В русском свобода расположения: стол — круглый с предикацией (предложение-суждение) и круглый стол с определением (понятие, выраженное как бы сложным словом). Эта особенность русского сотворения новых понятий основана на общем различии, существующем между существительным и прилагательным в каждом языке. «С философской точки зрения можно утверждать, что мы познаем вещества только через их качества» [Есперсен 1958: 81]; то же утверждал еще Потебня на примерах именно русского языка. У существительных объем меньше, а содержание больше, так что «существительные можно уподобить кристаллизации качеств, которые в прилагательных представлены в жидком состоянии» [Там же: 87].
Это, действительно, проблема философская. Что чему предшествует: wise ‘мудрый’ раньше, чем wisdom ‘мудрость’ или наоборот? kind ‘добрый’ предшествует ‘доброте’ kindness — или тоже наоборот? Английский ответ на этот вопрос рождает номинализм, русский — реализм. Русский язык дает возможность движения мысли от вещи к идее и наоборот (круглый стол и стол — круглый), английский — от идеи к слову-знаку (от wise к wisdom), французский — от идеи к слову-знаку и к вещи одновременно (суждение, оно же и понятие). Во французском «прилагательное — это виртуальное понятие, неспособное самостоятельно образовывать члены предложения; для того, чтобы стать предикатом, оно должно быть актуализировано связкой» [Балли 1955: 326]. Все это дает Балли полное право утверждать, что «французский язык, в отличие от немецкого, занимает прочную позицию перед лицом действительности: будучи далек от того, чтобы искать становления в вещах (подобно английскому. — В. К.), он представляет события как сущности» (т. е. как идеи) [Там же: 389].
Очень яркий современный мыслитель, В. В. Налимов, в сборнике «По тропам науки» (М., 1962) специально остановился на этой стороне дела.
Одни языки представляют собой сложные грамматические структуры, но при этом легко образуют и сложные слова или новые прилагательные, легко выражают мысль в виде длинных фраз с обилием вводных предложений, т. е. приспособлены для не очень точного, но глубокого выражения великих философских доктрин, для детального разбора любого раздела науки (например, немецкий язык).
Другие языки (с минимумом грамматических форм и с простым синтаксисом — как английский) созданы народами «с прагматической склонностью к действию и действенности, превосходно приспособлены для выражения научных идей в ясном и сжатом виде, выработке строгих правил предсказания явлений и воззрений на природу, не особенно заботясь при этом о проникновении во все ее тайны».
Промежуточный между ними — французский язык. «Его взыскательная грамматика, его достаточно строгий синтаксис до некоторой степени обуздывают фантазию и чрезмерное воображение. Менее гибкий, чем другие языки, он отводит словам внутри фразы почти определенное место и с трудом допускает инверсии, которые, сближая некоторые слова или выделяя их, позволяют получить неожиданные эффекты и дают в некоторых языках, например — в латинском, возможность добиться необычных по красоте контрастов», — заключает Налимов (с. 146).
А это и есть различие между реалистским, номиналистским и концептуальным восприятием.
Сопоставление всех особенностей двух языков показывает, что «французский — это ясный, а немецкий — точный язык, или, вернее: если французский язык любит ясность, то немецкий склонен к уточнениям; один прямо идет к цели, второй всюду любит ставить точки над і» [Балли 1955: 391]. Действительно, полумеры, компромиссы не для француза — он «идет прямо к своей цели» [Фуллье 1896: 124]. Что же касается ясности, она предполагает поиск отношений между словом и вещью (и между разными вещами), тогда как точность — это стремление проникнуть в глубь вещей, связывая их с идеями. Все дело в том, что «мотивированный знак уже сам по себе говорит нечто о понятии, которое он выражает» [Балли 1955: 392], так что ни немецкому, ни русскому языкам не нужно выяснять отношение слова к вещи. С самого начала ясно, что такое перестройка или гласность (мотивированные знаки), но что такое демократия или суверенитет (немотивированы русской системой) — это еще нужно уточнить. Шарль Балли специально говорит о том, что массовое внедрение в язык варваризмов приводит к разрушению языка, а следовательно, и к затемнению ментальности.
Вот что лингвист говорит о немецком предложении, но мог бы сказать и о русском: «Более того, когда ум погружается в созерцание и становление явлений, всё кончается тем, что забывают, чем был вызван данный процесс; забывают о деятеле; субъект глагола остается в тени; а отсюда изобилие безличных глаголов в немецком языке... Напротив, французский язык отвергает эти глаголы вследствие их неопределенности» [Балли 1955: 380]. Весь немецкий и русский синтаксис пронизывает движение, тогда как французский «создает впечатление покоя, неподвижности» — это язык понятий, а не образов или символов.
Логика и риторика
Французский язык логичен риторически, немецкий — стилистически.
Говоря о «психологии французского духа», Фуллье заметил, что у француза идея определяет направление чувств и чувства зависят «от прохождения умственного тока» [Фуллье 1896: 112]. Французский язык всегда «готов для мысли, слова и дела», это вообще язык, «на котором всего труднее плохо мыслить и хорошо писать». Французская мысль логична, а не страстна, даже личные мысли выражаются «с известной безличностью». Очень точное описание французской речи: «Мы не формуем нашу фразу по глыбе вещей, мы ваяем эту глыбу для того, чтобы придать ей понятную и прекрасную форму»; «вместо того, чтобы быть рабами реального, мы его идеализируем по-своему» [Там же: 122] — выделим слова, указывающие на единство логического в понятии и риторического в искусном.
Описательность русского или немецкого высказывания порождает новое знание в момент речи. Здесь возможно творчество, которое одновременно творит мысль. Если для французского ученого «почти полное исчезновение диалектов — это сила» [Балли 1955: 396], то, например, для русского — беда: в результате исчезают источники пополнения образного словаря и создания ажурной конструкции стилей, в тонких оттенках которых постоянно воссоздаются культурные символы.
Вот почему и внедрение в язык немотивированных заемных знаков, и разрушение стилей речи воспринимается русской ментальностью как покушение на нее самое.
Английское высказывание хорошо характеризует Джордж Оруэлл. В английском «обширнейший вокабуляр (словарь) и простота грамматического строя» соединяются с прекрасной возможностью слов переходить из одной части речи в другую: прилагательное — оно же существительное, а часто и глагол, в сочетании с предлогами одно и то же слово содержит до двадцати значений, и т. д.
Здесь нет длинных фраз и сложных риторических периодов, «английский — язык лирической поэзии и газетных заголовков», и «именно потому, что им легко пользоваться, им легко пользоваться плохо», что многих устраивает: «Никаких сложных правил не существует, есть лишь общий принцип, согласно которому конкретные слова лучше абстрактных (они толкуют о вещи! — В. К.), а лучший способ что-нибудь сказать — сказать кратко» [Оруэлл 1992: 223]. Голливудские боевики демонстрируют доведенные до сугубого лаконизма реплики героев, повторяющие друг друга из фильма в фильм. Это уже завершение тенденции, поскольку «в устной речи опускается все, что можно опустить, а оставшееся сокращается». Почему так случилось, писатель объясняет верно: «Культурный английский утратил жизненную силу, потому что чересчур долго был лишен подпитки снизу» — от народной речи [Там же: 224]. Сегодня те же беды грозят и немецкому, и русскому языкам. Вот судьба английской речи: со времен Шекспира англичан характеризует «глубочайший, чуть ли не рефлекторный патриотизм наряду с неспособностью логически мыслить» [Там же: 203]. И это не случайная оговорка, а способность, связанная с формами языка: «Англичане никогда не станут нацией мыслителей. Они всегда будут отдавать предпочтение инстинкту, а не логике, характеру, а не разуму»; прагматики дела и вещи, «из-за острой нехватки интеллекта» они не интересуются интеллектуальными вопросами [Там же: 233].
Как обычно бывает, в заведомо заостренной форме здесь выражена самая суть дела, с болью за родной язык высказанная мастером слова.
Можно ведь и иначе оценить свой язык — по функции, а не по силе. Вот как это делает русский писатель Владимир Набоков, говоря о собственном переводе «Лолиты» на русский язык: есть разница между «молодым русским литературным языком и более старым английским языком». В английском «тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов», а вот в русском этого нет.
Но тут возникает естественное желание вступиться уже за «молодой русский литературный язык», в котором, конечно, тоже всё это есть, но не усмотрено в сравнении с английским, выделенным как предмет наблюдения. Между прочим, с «более старым английским», чем тот, о котором говорит Оруэлл.
Сравнивая английскую, немецкую или французскую речь с русской, замечаем, что русское высказывание спокойно может обойтись без местоимения, указывающего на действующее лицо, а в других языках это невозможно, они всегда местоименно точны: 1-е и 2-е лицо присутствуют обязательно. Устранение указания на говорящего в русском предложении объясняется ситуацией, пропозиция «вещи» не нуждается в выражении ее идеи посредством специального слова. Ситуация у русских включена в высказывание, в других языках она дублируется словесно. Англичанин начнет: «Мау I see your ticket?» — русский скажет просто: «Ваш билет...» Переведите на английский фразы типа «есть хочется...», «хорошо бы поспать...» — получится что-то вроде I'm hungry, и обязательно с этим «я».
В немецком и русском, как сказано, стилистическая функция речи имеет важное значение. Она проявляется во всем, включая порядок слов в предложении. В русском языке он вообще свободен, в немецком более связан, но в общем не так, как в английском или французском. В русском предложении «Я завтра утром пойду гулять» возможно до 20 перестановок слов. В русском свободно используется инверсия и дистантное расположение связанных согласованием слов («черные налетели птицы»), в немецком такие возможности ограничены; там глагол вступает в рамочную конструкцию, и если уж поставлен в начале предложения — значит, это особое логическое выделение мысли.
Я и ты
Символически различие между ratio и logos'ом может быть представлено в истолковании образа Троицы [Колесов 2002: 265—274]. У православного христианства это соотношение между Сыном и Духом, одинаково восходящим к Отцу; у католиков это соотношение между Отцом и Сыном (filioque), одинаково нисходящими к Духу. В латинском христианстве «лица оставались на втором плане», потому что признавалось их единство [Шпидлик 2000: 61] — «содержание понятия ????, происходящее от слова сердце, без сомнения, устраняет опасность интеллектуализма» [Там же: 115], но совсем не исключает его, ибо ???? есть Ум.
«Четвертая ипостась» Сергея Булгакова — это София, воплощенная идея синтеза всех трех ипостасей-Ликов и одновременно символ Соборности. София этимологически (с восхождением к древнегреческому образу) — «всматривание в себя» [Топоров 1980: 169]. Русские философы Серебряного века сделали попытку синтеза с возвращением в исходный концепт «София», но не как части ratio Ума, а как logos'а сердца, т. е. среды обитания, середины мира, непосредственности бытия.
На языковом уровне воплощением указанных отношений является место-имен-ная связь я—ты—он в единстве мы. В разных ментальностях истолкование связи различается. Например, два еврейских мыслителя, но работающие в разных языковых культурах, Семен Франк и Мартин Бубер, не совпадают в своих толкованиях.
У Бубера [1998: 64 и след.] соотношение я—ты возникает лишь там, где мы, но вокруг много он, она и прочих — и это не мы, а они; выделяется только круг «своих». «Только люди, способные реально сказать друг другу ты, могут между собой реально говорить мы» [Там же: 65]. Эмиль Бенвенист в отношении древнего индоевропейского языка также утверждал, что 3-е лицо — не есть лицо; исследователи истории современных языков (русского) полагают, что 3-е лицо — лицо эпическое. В известной мере это верно: из указательного местоимения формы он, она, оно стали использоваться как формы 3-го лица личных местоимений достаточно поздно, только в эпоху сложения великорусского народа и его языка (после XIV в.). Этот факт симптоматичен: для собственно русских людей он как и ты вместе со мною входит в состав мы. Троица-триада лиц соответствует идеальной Троице Ликов и тем самым включает в мы более широкий круг (ближних и дальних), чем западная языковая структура.
Именно так толкует суть дела Семен Франк ([1990: 348 и след.]; также Бердяев и другие русские философы). Мой, мне, со мной возникали раньше, чем я (форма самобытия). Я осознается лишь после встречи с ты, причем в составе конкретного я есмь — единственный. Второе я — это всегда он, т. е. возможно по степени близости ты: «он есть ты в сфере [безличного] оно» [Там же: 349]. Ты мне недостижимо, оно требует откровения, извне вторгаясь в нас. В момент противоборства я с ты есть явление встречи с ты как «место, в котором впервые в подлинном смысле возникает само я» и одновременно происходит концептуализация мы. Синтез всех в мы есть тайна — «святая глубочайшая тайна мы есть — как и тайна я—ты — тайна любви» [Там же: 385].
Я становится действительным только через ты и мы; само по себе я отсутствует как неразличимый признак индивидуума, не обретшего лица в отношении к ты и лика — в отношении к мы.
Русское следование личных местоимений (которые ни в одном языке мира не исчезают!) соответствует ликам Троицы, отличаясь от западного представления о том же:

Для западных языков 3-е лицо действительно не лицо [Штелинг 1996: 21]. Это указание на нечто неопределенное, безличное и объективно сущее; синтаксически форма 3-го лица сохраняет близость к имени (в русском языке не только по роду, но и по числу различаются его формы). В западных языках 3-е лицо представлено как объект в отношении к субъекту, это «объективное субъективное» может заменять всё, даже отсутствие субъекта (it's rains).
Артикль
В русском языке нет определенного и неопределенного артиклей, мы уже говорили об этом, — как будто нет, формально они никак не выражены. Англичанину-номиналисту важно различать вещь (the table) и понятие о ней (а table), с уяснения которого начинается всякое высказывание. Для русского реалиста это всё одно — но не то же. Апофатичность неслиянности-нераздельности присутствует и здесь. Куда от нее денешься?
Чем различаются выражения «взял хлеб» и «взял хлеба»? Это интересовало еще наших первых грамматистов, которые полагали, что данные речевые формулы передают количественную определенность (кусок хлеба) или неопределенность (хлеб вообще как продукт), а ведь это близко к понятию артикля. В некоторых случаях данное различие соотносится именно с различиями в артикле: нем. hole das Wasser — принеси воду, hole Wasser — принеси воды. Немецкий артикль der определенно обозначает известный слушающему предмет, который в момент восприятия не обязательно подвергать логическому определению. Артикль может употребляться и вместо указательного местоимения; более того, в форме единственного числа возможен «нулевой артикль», роль которого может исполнять определение solcher. А это уже точно похоже на русское такой или этот.
Артикль ориентирован на адресата и потому требует от него особого внимания к высказыванию [Штелинг 1996: 29]. С помощью артикля осуществляется уточнение логических связей в предложении. Например, отличие английского артикля от французского, немецкого, испанского и т. д. состоит в том, «что он не связан не только с падежом, но и с родом (а определенный артикль и с числом)», так что «английский артикль оказывается более независимым от имени», т. е. по смыслу шире, а функционально разнообразнее французского [Там же: 85—86]. Поскольку определенный артикль the там связан с указательным местоимением that, он сохраняет и соотносительно релятивные значения, служит в речи соединению слов. Особенности английского the в том, что этот артикль подчеркивает качественное (не количественное) своеобразие и притом отчужденно описательно, а не через переживание человека [Там же: 90]. Отсутствие определенного артикля переносит сообщение в понятийную сферу — это «мысль человека о предмете», а не сам предмет; неопределенный артикль относит имя к уровню представлений, а не наблюдений. По своему происхождению неопределенный артикль а восходит к неопределенному местоимению one и всегда показывает вычленение единичного из общего. Замечено, что неопределенный артикль выявляет в имени десигнат (признак различения), а определенный — денотат (предметное значение — объем понятия).
Во французском языке употребление артиклей «реализует различные оттенки значений в зависимости от семантики того существительного, которое он сопровождает, да и от значения высказывания в целом» — здесь совпадают меры количественной и качественной определенности [Гак 1988: 27]. В русском же языке определенным артиклям западных языков соответствуют местоимения этот, тот самый, свой, все эти, все, каждый, всякий, которые широко используются в речи, также помогая построению высказывания (в его логической проекции), но в большей степени свободы и притом в разнообразии оценочных и эмоциональных оттенков.
Отсутствие родового (артикля как формального знака) еще не указывает на исключенность категории, которая выражена серией видовых разграничителей. Русская логика свободна и исключает навязанность схемы-структуры.
Удвоенность сущего
Исследователи отмечают, например, что в иудейских обычаях существует запрет есть мясное и молочное одновременно: молоко — символ жизни, мясо — смерти. Но такое разграничение в европейских языках выражено различием в словах: в английском мясо живого зверя flesh, приготовленное для еды — meat, живая корова или бык — cow и bull, их мясо — beef, живая свинья и свинина — соответственно pig и pork. В русском языке подобное же различение, но по другому принципу. В нем плоть и мясо различаются только родово как общий признак, а видово, в отношении к отдельным мясопродуктам, используются производные: свинья — свинина, корова — говядина (от говядо ‘крупный рогатый скот’), курица — курятина и т. д. Всегда понятно, какой сорт мяса представлен в виде конкретно-единичного продукта (суффикс единичности -ин(а)). Возвращаясь к иудейским обычаям, заметим, что, например, у немецких евреев два ряда слов для обозначения всего еврейского и нееврейского, но существуют и различия по полу: мужчин приветствуют по-древнееврейски, а женщин — на идиш [Вандриес 1937: 238]. Это удвоение обслуживает вещный параллелизм явлений, как он отражен в народном сознании.
Русское народное сознание удваивает не вещный мир. Оно надстраивает над вещным идеальный мир вечного — идей, которые как бы осветляют земное и тварное. Мы уже не раз говорили об этом, приводя примеры подобного удвоения, вот хотя бы на противопоставлении полногласных и неполногласных форм, которые лучше всего показывают (значением словесного корня), что речь идет об одном и том же, но в разной проекции смысла: порох — прах, голова — глава, голос — глас и т. д. Удвоения нет в случаях, когда вещественность не возвышается в идеальное (сорока, горох и т. д.), когда идеальное представлено другим словом (дорога — путь) или слово получило неодобрительный смысл, исключающий признак идеального (корова — о неловкой, неопрятной женщине).
Современный исследователь заметил особенность всех таких случаев: «Мы не умеем описывать подобные явления из-за недостаточности адекватных средств описания: семантику не „спас“ ни язык семантических примитивов, ни какой-то другой искусственный язык, а, возможно, существующая lingua mentalis хранится за семью печатями и неизвестно, будет ли когда-нибудь обнаружен» [Голованивская 1997: 17]. «Язык семантических примитивов» — метод Анны Вежбицкой, всякие «метаязыки» сочиняли московские семасиологи. Все они работали на примитивном уровне понятий, исключая в своих исследованиях символы народных языков. Например, говоря о русских словах голова, земля, рука и др., рассуждали о метонимических переходах смысла в исконных славянских символах, не затрагивая сущности именно национальной ментальности. Сводя все различия между словесными образами разных языков к типологически общим понятиям, делали ответственный вывод о том, что это, якобы, «свидетельствует об универсальности закономерностей человеческого мышления» [Гак 1998: 709; также 694—698, 701—719].
Все языковые формы выражения ментальностей следовало бы изучать исходя из принципов национальной идентификации. То, что годится для французского языка (концептуализм В. Г. Гака), неприемлемо для русского реализма (эссенциализма).
Из всех языков Европы русскому во многом близок только немецкий, но так случилось исторически. Например, словарный состав немецкого языка более «демократичен» (неудачное слово: более народен), чем английский или французский [Штарк 1996: 20—21]. Наряду с общепринятыми научными терминами в немецком языке, как и в русском, имеются параллельные медицинские названия, основанные на всем понятном народном словесном образе, ср. Halswirbel ‘боль в области шейного позвонка’, в английском и французском только латинский термин cervical vertebra. В наличии определенной закономерности мы убедимся, если сравним такие термины:
немецкий Sauer-stoff Wasser-stoff
русский кисло-род водо-род
английский oxy-gen hydro-gen
В английском (и других европейских языках) условно-греческий термин, в немецком и русском — кальки, показывающие смысл термина в переводе на собственный язык. Михаил Ломоносов привнес в русскую номенклатуру немецкий принцип номинации: всё подавать в понятном простому человеку словесном образе. Здесь мы имеем дело не с заимствованием (из немецкого в русский), а удачное приложение собственно русского принципа к развивавшемуся научному терминотворчеству. Сравнивая это с современным засильем американизированных лейблов, ловишь себя на мысли: нет ли за этой экспансией семантически пустых знаков намеренного давления на ментальность? Как и в немецком языке, в русском посредством словообразования и словосложения потенциально возможны безграничные словарные запасы, воспроизводимые по мере надобности во всей силе их образности и эмоциональности. То есть во всей силе индивидуально-человеческого языка, а не «простого как мычание» волапюка.
В русском языке экспрессивность (эмотивность) номинации реализуется с помощью суффиксов (запаска, телик, неотложка), а образность представлена главным образом через глагольные формы, в которых образное восполнение концепта прежде всего и начинается. Сначала перестроить и только потом перестройка, сначала просто голосить и только после этого гласность («этимология» Салтыкова-Щедрина). Возникающий образ облекается в эмотивность чувства с тем, чтобы затем стать своего рода логическим понятием. Когда проходит время и становится ясной пустота случайно возникшего термина, он откладывается в сознании как символ прошлых эмоций: перестройка, гласность и прочее в том же роде. И уж символ никогда не исчезнет, напоминая об ошибках и боли.
Одно и то же представители разных ментальностей видят по-разному. Часть суток, в русском языке именуемая вечер, в английском может заходить и на ночь (at night — ночью, вечером), а русская ночь у французов может быть уже утром (час ночи — une heure du matin) [Гак 1998: 323]. Дискретность отрезков создает различные переходы, членимые сознанием в соответствии с привычками данной культуры.
Сравнение немецких и русских фразеологизмов показывает [Райхштейн 1980], что в немецком больше всего фразеологизмов на темы разрушения, уничтожения, предприимчивости и решительности, угрозы и раздора... Именно этих тем в русских фразеологизмах нет, хотя в большинстве оба языка совпадают: опьянение, счастье, усердие, помощь, удивление и возбуждение, гнев и ненависть, бедность и наказание... В немецком языке повышенная экспрессивность фразеологизма достигается путем замены слова, в русском — путем усиления образа фразеологизма в целом (гиперболы типа снять голову, содрать три шкуры), т. е. в русском языке по смыслу, а в немецком — структурно. В русском обороте образы, которые постоянно возобновляются, «освежая» смысл (так, как мы видели это на преобразованиях рядов обаятельный—очаровательный—обворожительный, чреватая—беременная—брюхатая и пр.). В русском языке отмечают более тысячи слов с ограниченной сочетаемостью, т. е. представленных как символы в очень редких идиомах (бить баклуши, андроны едут, не ахти как); в немецком их втрое меньше. В немецком языке фразеологизмы развиваются в сфере глагола (т. е. в высказывании), в русском — в сфере имени, тут важен символ, раскрываемый в высказывании (обычно это «отвлеченные» имена типа ум, душа, место, сила, дело, случай).
Сравнение русских и английских ментальных глаголов [Пименова 1999] показывает, что в русском языке активно используются приставки, в английском — послелоги. Базовых (исходных) глаголов этой группы в английском в два раза больше, чем в русском (более половины от всех глаголов ментального действия — в русском четверть). Однако при учете приставочных форм русский оказывается богаче английского по оттенкам ментального действия. В частности, в английском меньше таких глаголов со значением оценки или гибкой модальности (воображения, убеждения, предположения и т. д., особенно в переносном смысле).
Все подобные сопоставления показывают, что русский язык дает своему носителю гибкие формы для выражения личной эмоции и оценки, общей логической связи и традиционного символа, который способен сохранять культуру во времени и в пространстве. Французское «рацио» тоже насыщено эмоциональным («единство рационального и эмоционального начал»: Голованивская 1997: 264], но там они слиты «в общих словах» как заданная схема отстоявшейся эмоции, тогда как в русском эмотивность расплывается по всему высказыванию, всегда отражая личную точку зрения.
Грамматические категории
Грамматические категории явным образом выражают понятийные категории ментальности. Аристотель представил десять категорий, начиная от «сущности» (= имени существительному), так или иначе связанных с категориями древнегреческой грамматики. Впоследствии делались попытки (и совсем недавно: [Степанов 1998]) пополнить список, исходя из особенностей своего языка, но отличие от аристотелевых категорий в том, что современные индоевропейские языки далеко разошлись в истории, отражая ментальности определенных народов, и теперь их трудно представить как «общечеловеческие» понятийные. Да и прежде существовали различия между языками, даже в отношении к самым «обычным», казалось бы, категориям. Например, в древнееврейском языке очень часто одним и тем же словом обозначалось единственное и множественное число, что затрудняло уже первых переводчиков Библии на греческий язык, которые, например, не знали, в каких случаях говорить ?? ???? (Бог), а в каких ???? (боги) — а ведь это покушение на еврейское «единобожие»!
Одна и та же категория в разных языках одинаково проявляется в первичных (основных) функциях, восходящих к общей их древности, но различается во вторичных, переносных, т. е. уже собственно национальных, отражающих новую ментальность. Например, в русском множественное число представлено как совокупная множественность, во французском — как раздельная: горошек — des petits pois [Гак 1998: 23]. Одушевленность во французском языке передается неграмматически (как в русском: вижу отца, вижу стол), а лексически с помощью особых слов. В русском языке субстантивируется прилагательное среднего рода, создавая переход к отвлеченному качеству (белое, полезное), а во французском в такой функции выступает прилагательное мужского рода (l'utile — полезное).
Особая роль принадлежит в языке глаголу — с ним связано много понятийных категорий. Александр Потебня видел в глаголе центр всякого высказывания, и с ним согласны все: «Глагол дает жизнь предложению» [Есперсен 1958: 95], «вся грамматика в целом заключена в глаголе» [Балли 1955: 120] и т. д.
В некоторых языках (например, семитских) больше развита система глагольного вида, в других (европейских) — времени. В русском языке тонко переплетаются вид и время как существенные категории глагола, одинаково ценные для русской ментальности — реализма. Вид обозначает реальное протекание действия, он вещен и конкретен, тогда как глагольное время, по существу, есть идея времени, поскольку эта категория отражает субъективно избранную точку «от момента речи». Благодаря этой системе в русском высказывании нет необходимости в сложной системе времен, с помощью которой можно показать последовательность описываемых действий (правила последовательности времен), их интенсивность и качество. Идеальное и реальное в русском подсознании совмещены на пространстве одного и того же глагола, так или иначе представленного в определенной форме.
Можно по-разному оценивать такие расхождения между языками и формой их воплощения в речи, но то, что они связаны с национальной формой речемысли — ментальности, — несомненно. Что же касается конкретных воплощений языковых форм ментальности, это лучше всего уяснить, погружаясь в чтение грамматик.
Вечный Жид
Повторим: «Теперь все дела русские, все отношения русские осложнились „евреем“. Нет вопроса русской жизни, где „запятой“ не стоял бы вопрос: как справиться с евреем, куда его девать, „как бы он не обиделся“?» [Розанов 1990б: 523].
Это сказано сто лет назад, а проблема все сложнее, все безысходнее из-за несводимости двух ментальностей, внешне очень похожих, а местами просто совпадающих по характеристикам. Остановимся подробнее на этой стороне дела, привлекая свидетельства обеих сторон, русской и еврейской. Как бы ни были схожи стороны, но внутренний импульс взаимного неприятии сохраняется. Почему же так?
Для начала объясним разницу между русским представлением о еврее и жиде.
Восточные славяне сохранили различные термины для обозначения народа, в соседстве с которым живут с незапамятных времен. У украинцев — жид, у русских — еврей. Первое слово осталось во многих славянских языках, прежде всего западных; из католической Польши проникали к нам идеи антисемитизма, но уже не как общественное настроение или политика (антисемитизм со времен фараонов предстает «как известное общественное настроение» [Солоневич 1991: 58], а как идея. Именно к идеям всегда были лакомы братья славяне. Высказывание Петра Бицилли на этот счет мы уже знаем, и мнение Пушкина — тоже: презренный жид — почтенный Соломон! Да и царь Петр, обзывая евреев мошенниками и запретив им являться пред очи («от врагов Господа моего не желаю прибыли интересной!»), в министрах держал Шафирова. Отдельный человек одно: он может быть и плохим и хорошим, и неважно, еврей он или же нет, а вот идея еврейства — дело совершенно другое. Тут надо подумать.
Подумаем.
Прежде всего, «не следует смешивать с антисемитизмом дурную привычку русского человека позубоскалить над е в р е е м или поругать „жидов“ [Карсавин 1928: 47] — себя он поносит и покруче. А уж его-то... Заметим, что у Карсавина одно слово выделено разрядкой, а другое — стоит в кавычках.
Тому есть причина.
Слово жид очень древнее, славяне заимствовали его у романских народов, чуть ли не у римлян (латинское слово judaeus). Обозначало оно «племя июдово»; изменение произношения показывает, что слово было известно до IX в. в народно-разговорном языке славян.
Церковнославянское еврей заимствовано из греческого ???????; это слово высокого стиля, книжное, новозаветное ‘пришелец, странник’; оно не могло обрастать уничижительными значениями. Оно и служит для нейтрально-литературного обозначения народа: евреи.
Третье слово — иуд?и — тоже из греческого (????????), оно известно уже в старославянском языке, первом литературном языке православных славян. Как правило, оно означало веру и народ, этой веры придерживающийся. При нелюбви евреев к прозелитизму представители других этносов редко принимали обрезание, но если это случалось, инородец также становился иудеем. Это не этнический, а конфессиональный термин, слово высокого стиля, оно также не могло развивать нетерминологические значения.
Все три слова явились не враз, а в последовательности жид — июд?и — евреи, — что и обусловило смысловую их судьбу, к самим евреям отношения не имеющую. Да и к славянам также.
Чем древнее слово, тем оно многозначнее исходно, поскольку поначалу служило для обозначения многих качеств сразу. Русский тоже не только этнический, но даже скорее культурный, конфессиональный, государственного значения термин. Поскольку терминологическое значение слово получает в авторитетном книжном тексте (обладает достоинством и служит образцом), греческого происхождения слова стали терминами, латинского корня слово жид — осталось в своем символическом значении.
Теперь войдем в обстоятельства жизни древних славян. Они только что избавились от хазарского ига (в Хазарии иудаизм), они недавно учинили погром в Киеве против насилия еврейских ростовщиков (1068 г.). В отличие от самих евреев, совершивших первый в истории погром (и ежегодно его празднующих в день Пурим), русские не убивали, а просто изгоняли вон — ибо, по слову князя, «нельзя о евреев пачкать меч». В «жизнерадостном» христианстве киевлян нет никакой веры Завету Ветхому, а с амвонов батюшки поносят «июдино племя», представители которого распяли Спасителя — Спаса. И символ, известный народу, вот он: слово жид. По-прежнему на устах, и «по жизни» видно: слились это смыслы в общем и указывают на одного из самых ненавистных угнетателей, на ростовщика. Как поступили бы вы в этом случае? Вот и в русском сознании дремлет мысль: не принимает христианства — значит, хочет остаться ростовщиком. Еврей не хочет быть тем, к чему призывает других, — интернационалистом, ибо это снимает идею «избранного народа» [Трубецкой 1990: 213]. Идея «паразитной нации» закрепляется за евреями и потому, что их вера «освящает воровство, мошенничество, обман и грабеж, повелевает убийство и мошенничество» [Ковалевский 1912: 7]. Последний наш летописец и первый историк Василий Татищев в начале XVIII в. подвел итог: «В России же едины жиды от Владимира II [Мономаха] доднесь не терпятся, но и та не для веры, но паче для их злой природы, обманов и коварств, чрез которых многие раззорения тайно христианам приключаются. Как и цыганов не для веры в государстве терпеть не безвредно» [Татищев 1979: 88].
Жаль, при переизданиях словаря Даля вырезали статью на это слово. В ней хорошо показано, как нравственное чувство народа сопротивлялось на Руси развитию «товарно-денежных отношений» и как оно оценивало «финансовый капитал» в эпохи его столь частого зарождения с последующим быстрым исчезновением.
Вот эта, стыдливо, но с тайным умыслом опущенная статья: «Жид, жидовин, жидок, жидюга, жидова или жидовщина, жидовье — скупой, скряга, корыстный скупец», — из которой ясно русское отношение к этому типу. Не еврей тут имелся в виду; это собирательно-общий, неэтический тип скряги, способного за грош удавиться.
Однако литературный язык в России развивался своим чередом, и в стилистических его границах естественным строем встали в ряд:
иудей — слово высокого стиля (принадлежность к конфессии),
еврей — слово среднего стиля (принадлежность к народу),
жид — слово низкого стиля (терминологически неопределенное).
Любопытно, что в древнерусской книжной традиции устойчиво — до XVII в. — употреблялся термин жидь: жидовинъ, хотя параллельно русским инославянские тексты уже использовали термин иуд?и, различая веру и профессиональное хобби. В древнерусских переводах (Книга Есфирь) также только июд?и, июд?янинъ. Расхождение связано с различными южнославянскими традициями письма: древнерусские книжники ориентировались на симеоновскую восточноболгарскую (жидъ), но уже в XVI в. сербские варианты с употреблением слова жидовинъ соотносятся с русскими при определении еврейскъ. Но в русских текстах XI—XVII вв. слово еврей не встречается. Может быть, потому, что слова среднего стиля в письменности использовались нечасто.
Простонародное слово и впитало в себе все семантические отходы высших стилей. Жид — не обязательно еврей и не всегда иудей: это скряга, ростовщик, алчность и жадность которого утесняет других людей, эксплуатируя их труд. С давних времен для русского человека иудей — это нехристь, еврей — человек и умный, и работящий, жид... Сами знаете... Тот тип русской жизни, о котором Ключевский сказал: «У них нет совестливости, но страшно много обидчивости: они не стыдятся пакостить, но не выносят упрека в пакости» [Ключевский IX: 398]. К тому же «евреи допустили, чтобы их национальное имя иудей или жид стало ругательным словом. Трудно себе представить, чтобы слово русь стало когда-нибудь для русских ругательным: русские, я думаю, всегда подымут перчатку. Если их будут называть русскими с желанием оскорбить, то они, я думаю, не оскорбляясь, а гордясь своим именем, заткнут глотку поносящим».
Однако как много желающих стравить еврея и русского (и любого другого), потому что жиду (в том числе русскому) это выгодно.
Вдобавок, русский человек не любит тех, кто чрезмерно выставляется, выступает. И не в национальной принадлежности дело, не в вере, а в человеке. Вспомните «образ еврея» в русской литературе — это действительно образ, а не тип, образец личности, а не схема. Человек, а не идея.
Кроме Карсавина, на тему еврейства и жидовства высказались Сергей Булгаков [1991] и Виталий Шульгин [1993], но между ними различие. Лев Карсавин изучал вопрос с точки зрения «еврея», Булгаков — с религиозной точки зрения — «иудея», Шульгин, как представитель Юга, с точки зрения «жида». Булгаков сравнивал различные мессианские идеи, заимствованные из иудаизма, и показал, что «нерастворимость» еврейского народа в диаспоре вызывает драматизм отношений с окружающей средой, в которой и возникает соперничество «светского мессианизма» — нацизма (в широком смысле всякого фашизма) с библейским мессианизмом, носителем которого евреи себя по справедливости считают, не допуская прозелитизма.
Каждый из трех по-своему прав, и вместе — не прав. Не прав потому, что смотрит только с одной стороны. Вряд ли возможны к исполнению призывы почтенных авторов: иудеям покаяться за революции, русским — простить и очиститься (Булгаков), или — евреям войти в лоно истинной веры православия (Карсавин), или — очистить себя «от жидовства», изринуть жида из русской души (Шульгин). Многое, что приписывают русской ментальности, тоже следствие подобного «жидовства». Судить за мысли — этого не мог понять и Пилат; «всечеловечество — для еврея это господство» [Шульгин 1994: 313] и т. д.
«Зараженность жидовством» у русских есть такое же следствие долгого сосуществования, как и у еврея зараженность русским языком и культурой («льнут к культуре»). Вот только что один из них написал: «Современный русский язык — это язык Пастернака, Мандельштама и Бродского» — разве не провоцируют такие высказывания людей, которые предпочитают поэзию Рубцова, Твардовского, Кузнецова и прозу писателей-«деревенщиков»? Намеренность логических сбоев, смешение литературного языка с языком литературы создает публицистическое напряжение между разными культурными потенциалами — во вред обоим.
Или вот еще утверждение современного публициста: по завету Льва Шестова и вослед творческому опыту Исаака Бабеля русская литература отходит от «искажения жизни, воспевая одни „идеалы“ — вместо того чтобы говорить суровую правду о человеческом существовании. В результате всё больше является произведений, воспроизводящих грубую правду жизни» (физиологию и патологию ее, хотелось бы добавить, читая имена авторов, перечисленные вслед за этим). Почему бы и нет? Но почему такая литературы — русская? Русская литература не концептуально вяжет слово напрямую с вещью, это не натурализм, а все-таки реализм, и без этой самой «идеи» ей не обойтись никак. Самые жестокие романы Андрея Платонова, самые мучительные страницы Варлама Шаламова — прежде всего идеи, взывающие через острое и многозначное русское слово к «вещи», к миру, к жизни, к судьбе.
Воля ваша, но нет ли правды и у русских мыслителей?
«Произошел осмос продуктов распада двух культур: европейской и еврейской. Какова тут доля вредного влияния со стороны каждого из элементов, узнать, разумеется, очень трудно и даже совсем невозможно без тщательных специальных изысканий. Но для них условия до сих пор крайне неблагоприятны, так господствуют страсти и пристрастия: у одних — стремление во всем обвинить евреев, у других — стремление их совершенно обелить. Мы ограничиваемся констатацией общего факта, напоминая, что наша задача не в лечении нервнобольных. Вполне понятно, что ассимилирующиеся евреи сыграли свою роль, хотя отнюдь не основоположную, и во вредном для русской культуры процессе чрезмерной евреизации. К тому же и европеизм XIX в. не свободен, как мы видели, от влияния евреев...» [Карсавин 1928: 42].
Нужно бы отказаться от вредной привычки путать божий дар с яичницей и не приписывать русскому реализму как ментальному опыту несвойственный ему прагматический номинализм, согласно которому всё кажется столь понятным: есть термин — есть и идея, а уж за идеи непотребные — рубить головы!
Это не русская идея — рубить головы. Но откажется ли еврей от своей идеи? Если уж христианские конфессии не могут поладить взаимными компромиссами, как тут справиться с рас-трое-нностью еврейского сознания, неспособного решить вопрос однозначно, то есть честно.
Вот и подошли мы к тому, с чего начали.
Вечная проблема. Вечный жид — the wandering Jew — скитающийся жид, то есть еврей.
Так что непонятны истерики по поводу слова жид. В некоторых языках это единственный термин, именующий еврея. Но дело даже не в этом. Исторические метки остаются на потомках. Сила, выносливость и добродушный характер средневековых славян, долго не имевших собственной государственности, способной их защитить, привела к тому, что «цивилизованные» народы торговали ими на всех невольничьих рынках Европы и Азии, закрепив это состояние даже в слове-термине: английское slave — раб, невольник, даже жертва, но также труженик (работяга); ср. также немецкое der Sklave, испанское esclavo и т. д. Западным номиналистам на этом основании очень просто «доказывать» «вечно рабское» в русской душе — стоит лишь употребить это слово в привычном для ментальности содержательном смысле.
Почему же жид любой национальности не может быть назван так за особенности своего социально опасного поведения? В средневековой Европе преимущественно евреи занимались ростовщичеством, скупкой краденого, подпольной торговлей и прочими непотребными деяниями. Слово стало нарицательным обозначением скупца, скряги, корыстолюбца. Точно так же ведь и немец для русского сознания не обязательно германец, а вообще всякий враг, пришедший из-за рубежа, не говоря уж о знаменитом «англичанка гадит» — как признании корыстной британской дипломатии. Что за исключение для «жида»? Тем более, что сам он в своих высказываниях о русском отнюдь не стесняется в выражениях. Где же равенство? Где демократия? Исповедовать двойные стандарты не к чести европейцу, который упрекает русских в «раздвоенности сознания».
Русский и еврей
Самым удобным для сравнения русского простеца с кем-то другим будет сравнение с еврейским «простецом». Его особенности весьма характеристичны; несмотря на более чем тысячелетнее проживание в славянской среде, он сохранил именно особенности своего типа.
Воспользуемся авторитетными указаниями известного еврейского ученого, который дал сжатый очерк еврейской ментальности [Штейнберг 1983], и попробуем сопоставить два типа; это возможно тем более, что, как заметил Шеллинг [Шеллинг 1989: 302], и «закон еврейского стиля — это параллелизм».
В плане идей оба типа совпадают вполне, поскольку и русский тип воссоздан исторически на иудео-христианской традиции; оба типа густо замешаны на язычестве. В плане характера, поведения и ментальности различия принципиальные, в общность сотрудничества не сводимые.
И русский, и еврей обуяны мессианской идеей, ждут «света с Востока», а не с Запада («Запад — меркнет»). Но и Восток они понимают по-разному, и мессианизм их различен: Пришествие и — Второе Пришествие.
Для тех и других авторитет один — это Бог, и никакого другого авторитета не существует в разграничении Добра и Зла, кривды и правды — авторитет абсолютный.
Для обоих «богоподобие человека» есть основная идея, и на этом основывается отношение к конкретному человеку. Идеальный человек в обеих моделях сознания совпадает по признакам: скромность, умеренность, самоограничение, удовлетворение малым, богоподобие как идеал самосовершенствования, предупредительность к слабым; это — кроткий, спокойный, открытый разум, чистое сердце, полное благодарности и прощения.
Любопытная подробность: самые рьяные критики русского «Домостроя» — еврейские публицисты и мыслители. Между тем всё, что мы знаем о законе семейной и домашней жизни у евреев эпохи Средневековья, почти полностью совпадает с рекомендациями «Домостроя». По свидетельству Аарона Штейнберга [1983: 167—168] по устному закону Mishnash семья соотносится с семьей на основе Соглашения («общественный договор» Руссо), отец выступает в двух функциях: главы семьи и руководителя домашней школы (ибо семья — подготовительная школа), что не уменьшает авторитет матери, второго лица в управлении домом (хотя признаётся, что женщина как существо слабее и телом, и духом); относительное равенство мужа и жены в домашней сфере укоренено и принципом «сексуальной морали»: ореол святости и сакрализации супружеских связей. Во внешнем мире еврей — другой [Там же: 172—173].
Он подчиняется двум взаимно противоречащим руководящим принципам. Первый обязывает еврея уважать человеческое достоинство нееврея и воздавать ему все, что достойно сына Адама (универсалистская идея); второй требует держать нееврея на расстоянии «вытянутой руки» (отчужденность, озабоченность в сохранении собственного закрытого общества). У русского наоборот: доверительная открытость — и очень частое неуважение к личному достоинству другого человека. Причина — в откровенности (открытость и есть откровенность), мешающей уважать недостойное уважения. Правда, и «у русских евреев есть проблемы с уважением к мировому еврейству и проблемы уважения к России», — замечает Штейнберг [Там же: 280]. Русские наблюдатели специально отмечают разницу: у еврея уважение к идее человека (уважение к достойному), а у русского — уважение к конкретной личности, но против идеи. Концептуалист еврей исходит из идеи, а реалист русский до идеи доходит — от вещи, от реальной жизни, от конкретного, ему знакомого еврея в данном случае: «С расовой ненавистью к евреям у нас ничего не выйдет. Каждый из нас, каким бы ни был антисемитом, в конце скажет: "Вообще говоря, жиды сволочи, но вот Соломон Соломонович — прекраснейший человек!"» [Солоневич 1997: 210].
Средневековые легенды о вечно странствующем жиде связаны с установкой на деятельность: «...всегда и везде быть в движении — вот что такое Израиль среди народов мира» [Там же: 232]. В этом отличие от русского странника: «вечного жида» притягивает его новая страна, а русского отталкивает его собственная; отсутствие ностальгии в первом случае — и неотвязность ее во втором.
У еврея внутренняя религиозная традиция получает статус обязательного закона — против диктата сердца [Солоневич 1997: 158]. У русского сердечное влечение, наоборот, воспринимает энергию благодати (теперь говорят о харизме), и потому с законом — всегда не в ладах. Хорошие законы существуют лишь для избранного народа, и потому любой представитель этого народа должен жить по чувству ответственности, вины и обязанности, ибо «всякое отклонение от закона способно разрушить мир» [Там же: 168]. Русский знает Послание к евреям апостола Павла, в нем сказано: «Ибо закон ничего не довел до совершенства», и если бы не было недостатка в законе, не было бы нужды его исправлять [Там же: 7, 19 и 8, 7]. А поэтому перед законами все должны быть равны, не должно быть избранных — и никто из людей не может создавать законы.
Абсолютная бесценность каждого человека, его индивидуальности признаётся евреем, но подвергается сомнению русским: не личность — главное в социальной цельности человека; часть оценивается по цельности целого.
Устный закон евреев предписывает: прежде грехи пред Господом — теперь грехи пред человеком, перед другим (ближним); русский различает три степени отношения человека в его греховности: к Богу, к другому, к себе самому, и в последнем отношении это совесть.
Исторически скромность Моисея — пример для подражания. Моисей никогда не говорил от собственного своего имени, постоянно выступая интерпретатором Писания. Поэтому, с иудейской точки зрения, идеальный человек не должен и пытаться приступать к совершенно новому начинанию, но, скорее, продолжать работу своих предшественников, ее истолковывая. «Мастерство интерпретации» — сильная сторона еврейского гения, но творческий потенциал приглушен. Даже философия для него — анализ текста (готовой вещи), а не слова — не языка. Интерпретация текста (в широком смысле) — характерная особенность еврейской культуры в любой сфере творчества; это культура мнений, рекламы и внешнего блеска («рыночный текст»). Это культура ремейка. Еврей — адвокат, режиссер, литературовед, публицист широкого профиля. Интерпретационная сила каждого — выше всех похвал; много острого, спорного, добротного, однако новой идеи — нет. Нет потому, что концептуалист всегда исходит из готовой уже идеи; она ему дана, ее следует развить. Потому же еврей всегда и универсалист (идеи), и одновременно горячий сторонник всяческих переустройств, в том числе и общества на интерпретированной им самим основе. Вместе с тем сами евреи не были «творцами новых идей, они только придавали европейской науке характер абстрактности, отвлеченности» [Розанов 1990в: 26]. Русский исходит из цельности известного уже слова (логоса: задан, а не дан), в рамках которого он и хотел бы со всеми сотрудничать (эволюция, а не революция — лозунг славянофилов). Творение нового важнее и ценнее интерпретации уже известного, воспроизведения и толкования чужих открытий. И у русского возможны преувеличения, но иного рода, о них говорит философ: «Готовность к абстрактному яркому концептуальному творчеству — до сих пор характерная черта российского ума. Не случайно на Западе, столь ценящем позитивное, конкретное знание и творчество, не встречает поддержки фейерверк интеллекта и фантазии, самоценные у нас: идеи прекрасны и красивы, но каков результат? И где он?» [Тульчинский 1996: 175—176].
Повышенное внимание к образованию, получению положительных знаний — высшая для еврея заслуга. К этому он готов с ранних лет; маленький еврей накапливает знания, маленький русский в со-знании воспитывает воображение (даже если в школе учат его «знанию» терминов и дат, он непроизвольно стряхивает с себя подобную шелуху: «Какой бездарный ребенок!» — говорит учитель-еврей): мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Из числа евреев выходят хорошие учителя, педагоги, психологи — очень основательные полиглоты и эрудиты. Пренебрежительное отношение русского к накопительству знаний связано с реалистской его позицией: в слове он всегда найдет ответы на конкретный вопрос, нужно лишь в слове этом — разобраться. Еврейский интеллект — по воспитанию и природе концептуалистический — идет от идеи готовой (и часто — не своей), ему-то знания и нужны, поскольку ни в одном языке нет для него глубины ментальности.
Идея толкуется евреем через букву Закона. Отсюда и сильные и слабые стороны еврейского менталитета, как понимает их русский человек: буквализм, прагматизм, рационализм, схематизация любого явления почти до скелетного уровня, слишком большое умствование на пустом месте (в пример приводят философию Льва Шестова, но годится любой литературовед и публицист), насыщение «текста»-дискурса ненужными подробностями и деталями. Русский тип ментальности прямо противоположен в своих признаках и в глазах еврея выглядит как несобранный, непредсказуемый, нерациональный в действиях тип, что также — неверно. Потому что русское сознание вещь представляет — вещью, идею — идеей и в своих изысканиях исходит не из писаной буквы, а из вещего слова.
«Универсальная гармония в этом мире», — писал Аарон Штейнберг [1983: 166], — для еврея заключается не в братстве, а в демократии, которая построена иерархически в субординации членов общества («чтобы сохранить общество как целое»). Но от разочарования в демократии возник социализм, заметил по этому поводу Семен Франк, добавив, что либеральная демократия — идея религиозного происхождения и корень ее известен [Франк 1996: 142]. Законченность лада в соборном, то есть живом целом, которое и определяет относительную ценность каждого его члена, — вот позиция русского. Лад как естественный порядок органически цельного лучше всяких иных по-ряд-ков (Ordnung'ов), ибо лад — это вещь, а не идея.
В любом толковании такое представление о гармонии есть братство; о предпочтении братства демократии постоянно писал Николай Федоров. Любопытно, что даже обращение брат, как всех примиряющее, появилось у нас, когда мы запутались в терминах социального общения: товарищ нельзя, гражданин опасно, господин непривычно, друг же... вопрос спорный.
Из различия в понимании социальной гармонии много следствий, в частности относительно идеи «системы»: система есть живое целое для русского и соотношение элементов по признакам различения — у еврея. От целого к части или от частей к целому, реконструкция или конструкция, «нисходим» или «восходим» — все в противоположном смысле.
Для еврея важна «сакрализация всех биологических состояний человека», прежде всего — сексуально-половая сфера жизнедеятельности; Аарон Штейнберг [1983: 169] полагал, что вообще еврейская мораль создала основу для человеческого отношения к животной сфере жизни. Сюда относится и развитие чувства отвращения от всего, что противно, нечисто и отталкивающе в природе. Для русского человека тоже много чего на свете противного, но в основу своего мироощущения он кладет не вещность тела, а идеальность духа; у русского отвращение к моральной грязи. «Весь смысл Израиля — искание великой, для него самого непонятной цели. Абсолютной божеской чистоты в зачатии и рождении. Преодоления первородного греха именно здесь, в самом темном и скользком срыве, в центре пола» [Гиппиус 1999, I: 237]. Женская проницательность: «...а для нас, увы, вечный Израиль — только Вечный Жид» [Там же: 239]. Все время не покидает ощущение, которое выразил Василий Розанов: «Еврей силится отмыть какую-то мировую нечистоту с себя, какой-то допотопный пот. И всё не может. И всё испуган, что сосед потихоньку отворачивается от этого пота» [Розанов 1990б: 475].
Еврей не верит в судьбу и во всех непорядках видит личную свою вину — но вину как объект греха видит в своих неурядицах также и русский, и различие в том, что русский при этом ропщет, а еврей, говорят нам, исправляет положение дел.
Словом, для русского нравственность поведения — первое дело, этика его привлекает возможностью регулировать тот самый лад общественной жизни, который и правит идеальным (реальным) миром. Для еврея важнее дело, рациональность вещи — и потому экономика.
В принципе, бедность одинаково рассматривается как естественное явление, сродни физическому нарушению, но если еврею предписано помочь соплеменнику, и это не «благотворительность», а долг, то русский понимает милосердие как возможность личного спасения, а не долг и потому, возможно, соплеменнику помогать не станет.
Исторически так случилось, что жизнь в диаспоре лишала евреев источников существования, обычных для местных народов. Экономика в самом широком смысле и стала их призванием. И когда сегодня так часто и слишком истерично вопиют об «антисемитизме», следует понимать и рационально (тут это свойство отказывает — почему?), что антисемитизм — родовое понятие, оно подразумевает несколько видовых: проблему политическую (сионизм), религиозную (иудаизм), экономическую (финансово-ростовщический капитал) и нравственную (жидовство в описанном смысле), но не этническую (семиты не только евреи). И если хоть одно из этих отношений в обществе сохраняется — проблема квазиантисемитизма сохранится. Такова эта «мистика антисемитизма» (по словам Солоневича), которая на руку разным силам, подчас противоположным по направленности действия.
Осталось понять, в какой мере «портрет еврейского типа» соответствует практике: сам Штейнберг постоянно ссылается на библейские тексты (в том числе евангельские) и часто цитирует неоплатонические тексты («Ареопагитики»). Значит ли это, что в душе иудей — христианин? Или прав русский историк Ключевский: «Им горячо жить — под их пятками горят заповеди»?
Жить... что мешает евреям спокойно жить в России? «Мешает этому, я думаю, преимущественно та исключительность, та особенная миссия, которую приписывают себе евреи. Знать свою миссию народу, как человеку свое призвание, не только не нужно, но вредно. Человек и народ должны всеми силами делать то, что составляет его призвание, а не определять его, так как определить его и нельзя до самой смерти. Призвание определяется после смерти... поэтому, пока жив, ни на минуту не надо отвлекаться рассуждениями праздными о том, в чем состоит моя миссия, — от исполнения ее; кроме того, рассуждения о миссии еврейства, обособляя еврейство, делают его отталкивающим, для меня, по крайней мере. Как противно, отвратительно англосаксонство, германство, славянство (в особенности мне славянство), так противно еврейство, как какое-то сознанное, обособленное начало, возведшее себя самозванно в какую-то должность и чин».
Так записал для себя типичный русский простец — Лев Толстой.
А великий русский юродивый всю жизнь удивлялся: «Да и странное дело: еврей без бога как-то немыслим; еврея без бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных, мы ее пока оставим... На деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его как еврея» [Достоевский 1983: 75]. Что тема «из обширных», это понятно из разросшейся этой главы и сопутствующих обстоятельств жизни, но Достоевский приметил главное: еврею удобно смешивать все три ипостаси своего социального бытия. «Еврей без бога» немыслим, потому что это иудей; раздражительность «образованного еврея» объясняется желанием «выскочить из жида». Весь «антисемитизм» писателя в том состоит, что он (как и всякий русский) хотел «указать, что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть, и не один русский народ и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени». Да и нет в мире другого народа, «который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество» — будто не они царят в Европе на своих биржах! «Но самомнение и высокомерие есть одно из очень тяжелых для нас, русских, свойств еврейского характера». Второе: «еврей может торговать чужим трудом... Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом...». Это человек, «дух которого дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей» [Достоевский 1983: 77, 87, 85, 84].
Русский еврей
Русские мыслители не один раз выразили ту мысль, что «из всех „инородцев“ евреи нам ближе, всего теснее с нами связаны», поскольку, в отличие от других народов, «не растворялись в русской нации» [Струве 1997: 208]. Но именно это нежелание принять «участие в русскости» и приводит, как кажется, к отталкиванию от евреев во всех слоях общества, в чем нет вины русских: «Левитана я люблю именно за то, что он русский художник» [Там же]. Конфронтация русского и еврея состоит в том, что ни тот ни другой не желает утратить «право на свое национальное лицо» [Там же].
Оставим в стороне крайние суждения яростных антисемитов, имевших, впрочем, основания быть таковыми (Меньшиков, Тихомиров, Розанов), хотя и в их мнение следует вдуматься, чтобы услышать сдавленный голос русского самочувствия. Мнений разного толка по нашей теме и без того достаточно, в том числе и со стороны евреев. Со всей серьезностью отнесемся к теме и постараемся изложить ее согласно общему плану книги: аналитически.
И В. В. Шульгин [1994: 176] с сочувствием говорил о евреях: не могут они добровольно «своего давления прекратить, ибо их самих толкает сила, сидящая внутри них». Шульгин упрекает евреев «с их преувеличенной претензией лезть на социальные верхи без достаточного к сему основания» — «и только твердая русская воля удержит евреев в должных границах» для их же пользы [Там же: 218].
Русский еврей имеет свои оттенки, связанные с его существованием среди русских. Обширную эту тему ограничим цитатой из Розанова [1998: 99 и след.]:
«Если перед вами еврей и еще несколько человек, немец, поляк, русский, чухонец, то вы всегда увидите еврея в озарении некоторой деловитости и вам нужности, а прочих — индифферентными себе.
Русский по обыкновению спит.
Поляк рассказывает „нечто из своих подвигов“.
Француз волочится. Немец глубокомысленно рассуждает о том, что никто не видал и о чем никто не знает.
Чухонец сосет трубку и ни о чем не рассуждает. И англичанин поглаживает мускулы.
Вы — не существуете для всех, о вас думает один еврей; и начал думать с той самой минуты, как вы вошли в дверь. Он думает, в чем вы нуждаетесь, — серьезно, участливо и практично. Он взвесил вашу душу. По лицу и по движениям он определил, что вы за человек, и какую почву представляете собою, и какое семя способны принять в себя. "Что из вас может выйти в отношении его..."
Он удобрил вас, он оплодотворил вас...
Вам нужно только сидеть и немного подождать...
Вы ждете. И действительно все хорошо сделано. Главное — успешно. У еврея всегда успешно (магическая их тайна в истории).
И вы даже не замечаете, что уже не „сам“ и „я“, а — „его“. Почва, которая засеяна евреем и которую пашет еврей...»
Вот еврей в отношении к русскому. Русский еврей. Он готовит почву, чтобы сеять. Именно евреи все разговоры о положении в России сводят к тому, что тут «все воруют, и особенно — русские: всех обокрали...» [Шульгин 1994: 69 — прочтите и дальше). И — ничего не поделаешь: правда. Но правда не вся: больше всех воруют как раз евреи. Вам будет трудно оправдаться, потому что еврей обобщает по редким фактам, но его обобщение справедливо как всеобщность, универсальность, неопровержимость. «Вы можете успеть против еврея только тогда, когда еврей не замечает, что вы с ним боретесь. Но боритесь с ним внутренно непрестанно и неустанно. Лучше же, выкиньте его из мысли, не думайте о нем. Живите, „как просто русский“» [Там же: 187].
Очарование еврейской обходительностью возможно не только оттого, что «отдельные факты имеются»; между евреем и русским за столетия совместного проживания образовалось много общих черт [Разин 1994: 21—30], из числа которых называют априорный тип ментальности, нетерпимость к инакомыслию, склонность к эквиполентному типу мышления (свое—чужое, тьма—свет и т. д. — библейская традиция), иррационализм, терпеливое трудолюбие (и это не всё). Главные недостатки у нас общие [Шульгин 1994: 320] — неоформленная, подчас дикая злоба («злобствование до бешенства»), идея избранничества, «поклонение золотому тельцу» и т. д. Однако «мой социальный слух говорит мне: евреи не могут быть поводырями русского народа... сие невозможно, ибо они правят насилием», а уж такого добра на Руси и без них бывало! [Там же: 334].
Русскому нужна благодать, а уж чего-чего, но «благости в еврействе не ощущаю» [Там же: 340].
Еврейский вопрос
«О, не думайте, что я действительно затеваю поднять „еврейский вопрос“! Я написал это заглавие в шутку» [Достоевский 1983: 74].
Развернутая цитата с той же целью: не я говорю, говорит история.
«Едва ли кто не видит, что еврейский вопрос — вопрос мировой и, более того, центральный вопрос всемирной истории...
А с другой стороны, кто посмеет отвергнуть основное положение антисемитов, что иудеи — „враги рода человеческого“, враги культуры, враги высшего достояния человечества... что нет такой скверны, которая не текла бы в конечном счете именно от этой „церкви лукавнующих“ [Пс. 25, 5]? Величайшая из антитез должна быть сказана именно о нем: через иудеев мир познал Бога, но через иудеев же он вошел в общение с Сатаною! («Идея второго бога не есть ли идея дьявола?» — мысль Шеллинга. — В. К.).
Правы юдофилы; но не менее правы и юдофобы. И те и другие даже более правы, чем это обычно высказывается... Но вместе с тем не правы одни, не правы и другие.
Если иудеи — „избранный народ“, то не выходит ли отсюда, что печатью божественною как будто скрепляются все их деяния. Все их внутреннее злое устроение, в том числе — зловонная зараза, от них плывущая, и даже присное противление Богу [Деяния VII, 51]? Но может ли это вместить христианское сознание, даже самое смиренное, и может ли, с другой стороны, с этим помириться честный еврей?» [Флоренский 1996: 705—706].
«Еврейский вопрос» постоянно разогревается заинтересованными в нем лицами. Литература обширна, мнения противоречивы, накал страстей поражает, что и доказывает: дело вовсе не в позиции русского человека, дело в претензиях еврея.
«После сталинского антисемитского террора... в стране установился социальный этикет, требовавший замалчивания еврейского вопроса» [Вайль, Генис 1996: 299]. Это вряд ли верно. «Замалчивание еврейского вопроса» в России, всегда различавшего образ иудея, понятие еврея и символ жида, началось в пореволюционные годы, после принятия советским правительством уникального «закона об антисемитизме», по которому тысячи людей попали в лагеря за острое словцо или просто усмешку в известный адрес («дурная привычка позубоскалить»... и т. д.). Случилось это до «сталинского антисемитского террора», но народ приметлив и быстро учится: замолчал. Самим же евреям двойственность их положения была наруку, и наши авторы с удовольствием о том говорят: «Искусство быть советским евреем заключалось в том, чтобы умело пользоваться двойственностью ситуации, все время играя на разных стереотипах „семитского мифа“. Само собой, такое поведение тоже не способствовало откровенности: „Не разевай ряшку — хуже будет!“»
Против такого вот неравноправия и возражали славянофилы от Хомякова до Солоневича. Например, «то упорное замалчивание роли евреев в революции, которого так тщательно придерживается наша левая печать, есть замалчивание бесчестное.
То объяснение, которое дают русской революции профессиональные антисемитские органы печати, есть объяснение неумное. Скажу сразу: моя точка зрения есть прежде всего русская точка зрения и только потом уже — антисемитская точка зрения» [Солоневич 1997: 180—181].
Стертость национальной идентичности русских во многом определяется постоянным подверстыванием «под русских» тех элементов, которые часто им враждебны. Лев Карсавин показал, как происходит размывание национальной культуры в угоду «общечеловеческой», и наши авторы подтверждают, что да, именно евреи и несут в мир «общечеловеческие ценности». «Еврейская система ценностей чрезвычайно близка к нашей общечеловеческой, или, выражаясь осторожнее, — к системе ценностей, характерной для нашей европейской гуманистической цивилизации» (цит. по: [Вайль, Генис 1996: 304]). «Гуманистической цивилизации», основанной на протестантском Ветхом Завете. В силу своего исторического и культурного положения, писал Карсавин, евреи не могут жить в сфере «частного и национально ограниченного» и потому превращаются в поборников любой абстрактной, универсалистской идеи: еврей всегда социалист, коммунист и «абстрактный космополит», «для него это формы универсалистической религии», которая поддерживает убеждение «в вечном первенстве культуры еврейской» (все это — выражения Карсавина, а Михаил Пришвин добавил о «еврейском паразитизме на социализме»). Неверно утверждение польских философов о том, что «традиционная чуждость (евреев — русским. — В. К.), пополненная картиной народа-«паразита», является прежде всего результатом столкновения двух мессианизмов» — русского и еврейского («народ-богоносец» середины XIX в.) или «их ролью в большевистском движении» [Идеи, 3: 158].
Отличие «русской идеи», например, от идеи еврейской состоит в том, что о русской идее знает только начитанная интеллигенция (да и то не вся), большинство же и не подозревает, что оно — носитель такой идеи. Наоборот, мессианизм еврейской идеи известен каждому еврею. О «русском империализме» вас будут спрашивать в любом уголке России, достаточно удаленном от Москвы и Петербурга, и недоумевать: вот мы тут прочли... а как же... говорят... разве?
Известный исторический факт.
По приказу Антанты был отстранен от руководства Белой армией генерал Деникин — за еврейские погромы, в ответ на террор евреев революции. В данном случае руководители Антанты действовали заодно с кремлевским правительством; чем не тема для «исторического разбирательства» Радзинского?
Разбирательства не будет.
Вот революция глазами простодушного «простеца»: «Евреи — паразиты культуры, они льнут к культуре, как мухи к сладкому. Шибаи — паразиты земли (родины), они льнут к мужикам. Между евреями и шибаями война» [Пришвин 1994: 284].
Между двумя мировыми войнами русская эмиграция была озабочена этим вопросом. В самом деле, перед революциями русская интеллигенция (и аристократия) «пошла встречь еврею» (Розанов), а тот оказался революционером. Надо было осмыслить опыт жизни, объяснить себе самим, как так случилось: хотели помочь, а вон что вышло. В поведении русского и еврея поражает расхождение: русский, прошедший беды, сострадает другим; еврей страдает — весь мир должен сострадать ему!
Взаимный счет, который могут представить друг другу русские и русские евреи, не исключает возможности дальнейшего сотрудничества, как и последующее со-существование не исключено тоже. Конечно, еврейский концептуализм и русский реализм не всегда со-стыкуются, и в силу расхождений в ментальности мы обречены вести диалог «из двух углов», как вели его о роли евреев в русской судьбе и революции Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон в 1922-м, а Лев Карсавин и Аарон Штейнберг в 1929 г. В этой разнонаправленности точек зрения есть лишь одна общая линия, она соединяет идею и слово. Слова у нас русские, а идеи общие; потому и «еврейский вопрос» у нас чисто интеллигентская выдумка — в народе его нет вовсе. В русских деревнях пригретые дети-сироты еврейского племени (на захваченной фашистами территории!) вошли в жизнь крестьянской общины, «омужичились» до конца. Оставаясь евреями, они лишились иудаизма и утратили жидовство. Средний стиль — он и есть тот лад, который так дорог крестьянину.
Хорошо бы объединить позиции на пользу дела, увеличивая их разрешающую силу, но при этом не навязывая друг другу своей точки зрения как единственно верной, достойной и справедливой. Это — насилие над свободой воли и совести, над свободой человека на мнение, над свободой его прав. А согласно русской ментальности так и просто безнравственно — грех. Как и в свершении подвига, в учении «от чужих» должна быть добрая воля.
Добрая воля?
«У Ильи Эренбурга в „Хулио Хуренито“ Учитель ставит вопрос: если бы в мире существовало только да и только нет, что бы вы выбрали? Все, кроме еврея, выбирают да. Еврей выбирает нет. Вот в этом-то нет и заключается некоторая метафизическая сущность вопроса, ежели попробовать добраться до нее» [Солоневич 1997: 202].
Подождем.
Антисемитизм
В одном антиеврейском сочинении, писал Владимир Соловьев [VI: 343], говорится, что у евреев «высшею степенью знания, а следовательно, и благочестия считается уменье доказать законность незаконного действия». Соловьев возражает против самой возможности такого аморального действия, но его критики уже показали возможность данной возможности на выборе профессий, у евреев предпочтительных (пресса, адвокатура, политика, биржа и т. д.). Бытовое недовольство этим и есть «анти-семитизм». Это ответ на вызов.
В. В. Шульгин различал три вида антисемитизма: расовый, политический и мистический. Еврейскому публицисту выгодно их смешивать, подменяя один другим, и тем самым уходить от справедливой во многом критики. Но на бытовом уровне эти типы действительно могли совмещаться или видоизменять формы своего проявления у конкретного человека.
Расовый антисемитизм инстинктивен. В других определениях, уже нам знакомых, это собственно инстинкт, проявление чувственной интуиции, основанной на историческом опыте народа. Неприятие, коренящееся не только на простом отчуждении чужого. Давление иудаизма славяне испытали во времена первого — хазарского — ига, уничтоженного, но по последствиям не совсем устраненного на юге Руси походами князя Святослава (самого нелюбимого героя западных историков; но его нет и на памятнике Тысячелетия России в Новгороде). Развитие этой формы антисемитизма описано Л. А. Тихомировым [1997: 314—384]; былинный эпос также посвящен этой странице нашей истории [Кожинов 1999а: 169—252].
Политический антисемитизм рационально-рассудочен, в других определениях это интеллектуальная интуиция, или инспирация, вызываемая вызывающим поведением евреев во всех областях общественной деятельности в той стране, которую они избрали местом своего влияния. Это самый распространенный вид антисемитизма, потому что он действует на понятийно-понятном уровне — не в прошлом, а в настоящем. «В России северной и восточной, где евреев было мало или где их совершенно не знали, антисемитизма почти не было», — писал Шульгин [1994: 49], сам разделявший эту (и только эту) форму антисемитизма. Оставаясь внутренне замкнутым этико-политическим образованием, еврейская община претендовала на все те права, которыми обладали непризнававшиеся ею автохтоны, что, естественно, воспринималось как несправедливость. Со времен Византийской империи евреям предлагалось принять христианство и тем самым войти в государственную структуру — чему евреи противились, вместе с тем претендуя на первые места, «а так как евреи добровольно не уступают занятых ими мест, то разыгрывается борьба, которая питает и будет питать антисемитизм» [Там же: 55].
Антисемитизм мистический попросту трансцендентен; это проявление мистической интуиции, т. е. интуиции в чистом виде, обращенной в будущее. Она также отражает исторический опыт народа, поддержанный непрекращающейся конфронтацией иудейства с христианством. Постоянно возникающие подозрения об оскорблении христианских святынь и факты таких действий поддерживают существование этой формы антисемитизма. Людей религиозных особенно тревожит это покушение на их духовность.
Таким образом, антисемитизм возникает как реакция русского общества (не государства) на понуждение, когда затронуты все три болевые точки общественного организма: на человеческое достоинство, на чувство справедливости, на духовные основы существования. Чувство, разум и воля одинаково противятся сближению с народом, в нравственном смысле показавшим себя не с лучшей стороны. Речь тут идет о народе — об идее, а не о конкретных людях; не забудем особенности русского «реального» восприятия, что также следовало бы уважать. «Я говорю о еврействе как идее, в платоновском смысле слова — абсолютного еврея нет» [Вейнингер 1998: 451]. Здесь «еврейство» представлено как «некая возможность, заложенная в нем самом». Антисемитизм вообще не присущ «арийским арийцам», полагал Отто Вейнингер, «самые жестокие антисемиты — среди евреев», ведь «даром никто не бывает антисемитом», потому что «человек не может ненавидеть то, с чем у него совсем нет сходства» [Вейнингер 1998: 439—440].
Но чем образованнее человек (и чем меньше он религиозен), тем меньше в нем предубеждений антисемитизма, по крайней мере до момента, пока его самого не коснется одна из описанных форм духовного понуждения, не говоря уж об экономическом давлении на честь и достоинство. Соединение нескольких форм и в судьбе множества лиц в момент социальной нестабильности приводит к вспышкам непримиримой борьбы, и тогда, действительно, «будет борьба с еврейским засильем», потому что оно, как минимум, предполагает устранение национальной ментальности в пользу еврейского закона. В обществе сгущается атмосфера стойкого осуждения всякого антисемитизма; жупел антисемитизма висит над любым, кто не разделяет установки еврейской общины или хотя бы не поддерживает их явно.
И тогда «перед евреями две дороги.
Первая — признать и покаяться (ситуация невозможная. — В. К.).
Вторая — отрицать и обвинять всех, кроме себя» [Шульгин 1994: 130] — всегда выбирают второе [Кожинов 19996: 87—138, 251—287].
«Научный антисемитизм Канта» и «публицистический антисемитизм» Меньшикова или Розанова имеют один и тот же характер: это ответ на агрессивный вызов в исторически важный момент развития своей собственной нации. Опасность вытеснения, а не очередного обогащения в результате продуктивных контактов. Все, что можно было заимствовать положительного, уже заимствовано через иудео-христианство.
Евреи и иудаизм
«Собирательный дух» еврейства, основанный на «неоспаривающихся принципах» и на внутренней замкнутости («никаких чужих образцов!»), действует в режиме постоянного преображения форм. Источник этики — предание, согласие с законами и долгом, осуществляемое в единстве личности на основе свободы и общего идеала. Всечеловечество, нравственное обаяние мученичества при идеализации «лучших людей». Совесть и покаяние. Единство изложения при разнообразии источников — и метод неограниченного согласования. В каждую эпоху — свой особый авторитет. Традиционализм и рационализм при множественности нравственных идей, пусть и несовпадающих друг с другом.
Отсутствие научной систематики, сомнение всегда чуждо, ибо «при всем том — почерпание общего из единичного». «Немолчный призыв: Ты должен знать!» Запрещенность субъективизма и нравственная солидарность. Бог — законодатель, божественная сущность как норма и основание.
Влечение к добру через чувство долга. «Воля, направленная к свободе, находится в непрерывном развитии народа». Благополучие в блаженстве универсализма. Любовное отношение к «чужеземцу» — ибо и ты — «пришелец на торжище».
Священие — цель, и каждый шаг — тоже цель. Не быть, а становиться святым — вот цель. Сама по себе жизнь — призвание. Основание и причина различаются. Святость — в Законе; это — честь.
Оценки обусловлены чувством, а культура есть техника жизни и естественное условие этического. Муки страдания связывают крепче, чем радость. Аскетизм, посты, смирение, покаяние. Призвание «священного народа»: милосердие, справедливость, сострадание и любовь к ближнему. Идея мира — идеал вечен.
Всё сказанное — заголовки к главам книги Лацаруса «Этика юдаизма» [Лацарус 1903]. Что неприемлемо для христианина? мало ли отличий от русской ментальности?
Всё то же, что и в этой этике, хотя и с небольшим уклонением, которое скрыто в ауре одинаковых слов.
Разгребем словесную шелуху — и что же? В чем отличия от русских взглядов?
Не этика запрета через закон — а этика искупления в благодати. Не только «к ближнему своему», к своим и нашим, но и к дальним тоже.
Не прятать сути в изменчивых новых формах, неясных непосвященным, а откровенно открыть в открытии, соединяя и привлекая.
Всё написанное — прекрасно. Но почему оно забывается? И почему только в отношении «своих»?
В каждом конкретном этическом члене при общности термина находим различие в объеме понятия.
Например, аскетизм. «Цель христианского аскетизма — не ослабление плоти, а усиление духа для преображения плоти. Соответственно этому и христианский универсализм имеет целью не уничтожение природных особенностей каждой нации, а, напротив, усиление национального духа чрез очищение его ото всякой эгоистической закваски» — но евреи всегда больше заботились о форме, о формальном [Соловьев 1884: 30].
Есть и другие отличия. Русские верят — евреи легко впадают в атеизм; русские каются — евреи нет; русские живут в своем языке — евреи к своему языку не привязаны; русские дорожат своим именем — евреи часто его изменяют [Шульгин 1994: 155].
Один из самых рьяных юдофилов, Владимир Соловьев, русскую неприязнь к еврейству объяснял поверхностно-иронически: «Они не хотят нас любить — ясно, что нам следует их ненавидеть» [Соловьев 1884: 2]. Но он же заметил, что евреи живут-то нашей нравственной слабостью и сильны они крепким единством, властью денег («жидовский материализм» практичен) и свободой личности. В общем, полагал философ, современные евреи — это люди с искаженным национальным характером, чем и объясняется «всеобщая антипатия к еврейству», ряды которого пополняются и за счет представителей разных наций, утративших связи с собственной ментальностью своего народа. Их опыт показывает, куда заводит интерес к «общечеловеческим ценностям».
«Пренебрегать иудейством — безумно; браниться с иудеями — бесполезно; лучше понять иудейство, хотя это труднее» [Там же: 8]. Стараемся — да не дают.
Забавная логика у русского реалиста: евреи вокруг — люди с искаженным национальным характером — и вот возникает неприятие идеи еврейства, которую следовало бы поощрить и принять, «хотя это труднее». Совсем противоположное традиционному русскому отношению между вещью и идеей: там наоборот — «проклятый жид — почтенный Соломон!»
Американский исследователь иронизирует над «русской мифологией» еврейских типов: торгаш, лавочник, портной,.. умный человек, добрый семьянин [Драйзин 1990] — о ростовщике и шинкаре ни слова. Но и другие полагают также, что «эмпирическая суть еврейства — торгашество» (Карл Маркс); о политических аспектах проблемы умолчим.
И жупел антисемитизма, как давно подмечено, неспроста заварен. Хотя с русской точки зрения такое умонастроение полезно: «Антисемитизм (это открыто мне Изидой) послан нам свыше не для „истребления евреев“, а, наоборот, для того, чтобы сделать из них полезных и приятных сограждан... показав им в антисемитическом зеркале истинное (а не воображаемое ими в самообольщении) их изображение.
Эту же цель, впрочем, имеет и антируссизм — явление в наши дни здоровое и необходимое» [Шульгин 1994: 299—300].
Классики не раз утверждали, что «гонения на евреев» не есть исполнение проклятия, поразившего целый народ, а скорее благословение их [Кант 1966: 446] — не занятые тяжким трудом построения держав-государств, они обратились к присвоению «свободных богатств».
«Общечеловеческие ценности»
Мы говорили о внутреннем развитии лица до личности, способной воплотиться в человечестве. Защитник «малых народов» в империи Владимир Соловьев полагал, что настоящая нация относится к национализму как личность относится к эгоизму — отрицательно, в русском их понимании. Индивидуум может быть эгоистом, личность — нет, ибо личность рождается в любви к некоему ты. Быть собой невозможно, не любя Другого, не служа ему. Русский человек осуществляет русскость как движение к человечеству — признанием той страны, в которой он живет. В признании и в помощи ей.
Еще одна большая цитата, которую трудно изложить конспективно.
«Всечеловечный народ русский вмещает в широте души своей сочувственное понимание и любование всеми народами, каждым по-своему: он способен уважать британскую суровую серьезность вместе с трагическим чувством жизненных глубин; он способен любоваться грацией и изяществом Франции, ее языком и искусством, трогаться красотой и величием Италии с античным ее наследством... да и вообще нет такого европейского народа или даже только народности, которые не нашли бы для себя место в этом мировом или, по крайней мере, всеевропейском музее культуры, которым является наша «варварская» страна. Русские люди поочередно ко всем испытывают влеченье, род недуга: поочередно как бы влюбляются то в одного, то в другого из великих народов Европы, подпадая — временно и односторонне — влиянию каждого из них. Однако ни с одним из них... не связана наша Родина так серьезно и ответственно, как с Германией и с ее культурой... Здесь известное отношение снизу вверх соединяется, однако, с добродушной насмешкой, с одной стороны, как и надменной презрительностью, с другой. В германство русский народ не влюблялся, как в другие, но взаимное их отношение всегда было серьезнее и ответственнее, чем ко всем другим, носило какой-то роковой характер. Немцу не свойственно любить бритта, при всем различии судеб и характеров все-таки они слишком друг на друга похожи. Не может немец брать всерьез и французское искусство, чтобы им увлекаться... Только Россия с ним соразмерна, к ней он прикован, ее инстинктивно ценит, хотя и высокомерно презирает. Впрочем, в своем полигисторстве и немец есть также человек, как и русский, хотя и по преимуществу умом, а не сердцем... Германство выражает собой мужское начало духа, русская же стихия женская; между обоими существует... различие всего чувства жизни, ее данностей и заданий... В этом смысле оба исторические типа представляют собой, конечно, каждый по-своему, односторонность и неполноту, однако взаимно восполняемую» [Булгаков 1991: 110—112].
Развернутое сопоставление русской и германской ментальности С. Н. Булгаков продолжал и далее, не раз сопоставляя русскость с другими (в том числе и еврейскими) особенностями национального характера. На этом примере мы можем видеть направление тех сближений, которые желательны в последовательном развитии человечного человечества.
Приписываемая русским ксенофобия носит в России избирательный характер и распространяется преимущественно на тот народ, который слишком заиграется на российских просторах, заберет на себя всю полноту власти и возьмет себе основную часть национальных богатств. В этом случае природное чувство справедливости, не чуждое и другим народам, взрывает общество и сносит наслоение паразитов. Катализирует этот процесс «нравственного ускорения» обычно не «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», а война, которую ведет такое «наслоение» в своих интересах. Так русский народ скинул татарскую, немецкую, еврейскую (в 1930-е гг.) силу, каждый раз заменяя ее внутренней энергией народного подвига. А уж «бунты» тут — просто следствие. Война объединяет патриотические силы высшим устремлением к справедливому равновесию в обществе. Справедливость — основание народной морали — не дает окончательно покорить народ. Это главный закон популяции, опрокинутый на социальную среду; он регулирует отношения не между индивидами (независимо от их этнической принадлежности), а между общественными стратами, сохраняя во времени единство главного народа — который не дробит, разрушая, а единит народы. А что касается отдельных лиц «малого народа», в очередной раз вцепившегося в холку России-тройки, те находят свое место в дальнейшем развитии государства и служат ему верно, достойно и с пользой. Ни для кого обидного или позорного в этом нет. Так есть, и это природная сила — гармония солидного общества, помогающая выжить всем в тяжких условиях существования. Внутреннее согласие между «большими» и «малыми» народами накладывает известные тяготы на всех их — и на «большой» народ, естественно, больше всего. Уважить и ценить этот подвиг самоотречения во имя единства умеют не все, а только столь же, — в смысле — достойные. А иные такого общества просто недостойны.
Русь в потоке времени
Глубокое исследование А. С. Шишкиной-Ярмоленко [2004] подвело итог многолетним исследованиям ментальности в стенах Ленинградского/Петербургского университета. Окончательное суждение автора таково: «Уникальность языка как раз и состоит в том, что он концентрирует в себе постоянно, в каждом акте речи, возобновляющуюся историю процесса познания, впитывает в себя через речь ситуативные открытия длящегося настоящего и прогнозирует на этой основе необходимые моменты будущего. Таким образом, язык представляет собою подвижную систему координат существования человека, в которую субъект познания не только всякий раз вписывает каждое внешнее и внутренне свое событие, но и проявляет ее потенции в силу резонанса с новыми впечатлениями и образами».
Реконструируя язык как собственно человеческий инструмент познания, мы с необходимостью учитываем принципиальную социальность процесса развития человека разумного, его бытие в обществе и в культуре, то есть историю жизни человека и жизнь человека в истории... Мы утверждаем, что филогенез сознания, проявленный в результате внутренней реконструкции языка, является стержнем филогенеза истории. Язык способен служить доминантой при генетическом рассмотрении истории, так как именно в языке концентрируются и отчуждаются все сущностные особенности процесса развития человека и общества [Шишкина-Ярмоленко 2004: 172].
Архетипическое единство (синтез?) языка и истории («слова и вещи») представлено в сознании («идея») и является, по видимости, точкой зрения концептуалиста, исходящего из уже готового и выверенного концепта (концептов).
Строгость исследования разных сторон русской ментальности достигается автором путем следования следующим принципам: определенности (на основе опыта и фактов), нелинейности развития (волновое развитие языка и общества), ассиметричного синтеза на уровне целого, количественных обобщений содержательной (неформальной) логики, «рекапитуляции» (признание общего типа развития одного вида, связывающего онтогенез с филогенезом, т. е. соединение видов с родом, личности с обществом) и представления о качественности Времени в становлении Целого (время как случайное проявление пространства). Выстроенная согласно этим строгим принципам хронология ментальной истории логична, нетривиальна и убедительна.
Познание, основанное на противопоставлении субъекта объекту, к концу XIX в. исчерпало себя. Формальная логика теперь недостаточна для описания всей глубины и широты мира, который вообще невозможно описать объективно, независимо от воли субъекта познания. В результате происходит возвращение к исходной «встроенности человека в бытие», образуется открытость логике развития «в потоке времени» — только в настоящем времени. «Ноуменальное понятие» сменяет понятие феноменальное, а отсюда возникает «сосредоточенность в себе», в рефлексии, вплоть до осознания необходимости понять сущность жизни в языке — погружение в ментальность как форму ноуменального.
И тогда получается, что «исследование языка в гумбольдтовской традиции наглядно показывает, что на уровне внутренней формы, скрытом в подсознании, языки настолько же едины, как едина и человеческая природа при богатейшем спектре индивидуальностей, этносов, рас. Глубинное единство при внешнем многообразии и может стать основой рассмотрения европейской истории для определения в ней специфического места России и русского языка. При этом история европейской христианской цивилизации предстает как целостное пространство, в котором, безусловно, действует закон преемственности» [Там же: 178].
Остается объяснить «скольжение к концептуализму» которым грешат современные исследователи темы. Перед нами не классический концептуализм, а его постмодернистское преобразование: нео-концептуализм.
Переходя на уровень символической интерпретации, мы получаем неожиданный результат смещения исследовательской перспективы. Пока исследования велись в режиме реализма, номинализма или концептуализма, единство позиции определяло движение сознания от Единого к двум; например, в реализме — от Слова к Идее и Вещи, когда исследовалось реальное соотношение между идеей и вещью и идея направляла процесс исследования. В данном случае это проекция «православного» понимания Троицы — от Отца к Сыну и Духу. Режим неореализма изменил перспективу: теперь даны Идея и Вещь, а Слово задано, и проекция исследования сменилась на «католическую»: от двух к Единому. Так современная философия слова устремлена к познанию немаркированного члена оппозиции, явленного в статусе нейтрализации как:
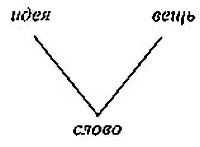
Таково первое отличие от старых «чистых» отношений.
Второе отличие состоит в том, что в исследовательской процедуре, в сущности, могут быть представлены все три проекции: кроме неореализма еще неономинализм с нейтрализацией в Вещи (предмет исследования) и неоконцептуализм с нейтрализацией в Идее, затронувшей внимание исследователя. В нашем случае мы имеем дело именно с таким движением мысли, направленным на Идею-концепт, который задан как тема. При таком положении дел возникает свобода выбора точки зрения, и обилие выборов может препятствовать исследовательской точности, последовательности изложения и в конечном счете доказательности. Мы все уже знаем теоретически, и «исследовательская сытость» приводит к субъективизму, а потому к неубедительности в аргументах для представителей других «точек зрения» на предмет описания.
И все три формы интуиции: чувственной у неономиналиста, интеллектуальной у неоконцептуалиста и мистической у неореалиста — безнадежно смешиваются, увеличивая несводимость результатов в конечном моменте исследования. Таково третье отличие современного философского взгляда на строго национальные точки зрения прежних времен: собирательного «русского» реализма, «британского» номинализма и «французского» концептуализма.
Всё вместе диктует прагматический поход к исследованию — «идеологическую зашоренность» идеальных предпочтений и бесконечный перебор «точек зрения» в рамках различных научных школ, представляющих современную гуманитарную науку. В лучшем случае дело ограничивается перетолкованием старых текстов с одной из указанных позиций на другую — как это и произведено в настоящей книге.
Парадокс: зрелость науки препятствует ее росту; старческое слабоумие мешает пробиться к новым вершинам.
Послесловие
Закончив описание русской ментальности в её основных особенностях, я начинаю подозревать, что не только русская ментальность как способ мировидения такова, и невольно закрадывается мысль: а не описал ли я особенности всякого нормального человека, его здравого смысла и присущего ему природного отношения к жизни?.. Человека, не зашоренного властью чужеродных идей, суровой необходимостью существования на грешной земле или даже сиюминутным расчетом, за которым невозможно спрятать чистого сердца?
Похоже, что так, и различие только в тех формах языка и быта, которые исторически влияют на человека, на простого человека, на Человека в его бытии — уже не в витальности-жизни, а в экзистенции-существовании.
Это ощущение усиливается при первом же взгляде на результаты тысячелетней истории рода—народа—нации. «Ничто не осуществилось!» — этот вопль Николая Бердяева [1969: 213] возвращает к неопределенности со-стояния между идеей и жизнью, всегда идущей наперекор ей. И самое главное, что, конечно же, мешало идее осуществиться, также замечено русскими философами, не раз описано ими. Например: «По крылатому слову Розанова, „русская душа испугана грехом“, и я бы прибавил, что она им ушиблена и придавлена» [Бердяев 1918: 42]. «Русская душа испугана грехом» потому, что целое тысячелетие народная душа росла и крепла в постоянных столкновениях с чужеродным ментальным миром в путанице посторонних, и часто сорных, идей, которые намеренно вбрасывались в цветущую плоть русской жизни — идей, замедлявших естественный рост духа в угоду фальшивой улыбке врага, завистника, всякой сволочи. «Национальный комплекс неполноценности», возникший на основе природной доверчивости русского человека, «национальный комплекс вины», настоянный на природной его порядочности, постоянно подтачивали душевные силы народа. И только в битвах, в боях, в сражениях, когда не нужна рефлексия, и она — опасна, а враг ощеривал пасть плотоядно, уже не таясь, — только тогда русский народ являл свою силу, жертвуя всем, страдая в муках, но — побеждая.
Русский хорош в открытом бою, он не умеет плести по углам паутину зла.
Что это так, мы увидели в книге, и стало ясно, что «люди и народы бывают самобытны, но сделаться самобытным никто не может. Народная самобытность, как настоящий клад, дается только тем, кто его не ищет; а кто ищет, тот вместо сокровища приносит домой одни негодные уголья» [Соловьев V: 42].
Русский тип в его самобытности посильно мы описали. Можно спорить с тем, что тип вообще существует, — номиналист сомневается в этом, отрицая существование «модели несокрушимо общего национального типа» [Померанц 1985: 93]. Даже если такого типа и нет в действительности, он создан народной идеей, а в этом смысле существует в реальности и «иллюзия» типа. Всякая идея есть иллюзия, в том числе и высказанная Померанцем, который пишет, что любой национальный тип неминуемо «сбивается либо в идеал, лежащий в основе целого культурного круга (а вовсе не одной нации), либо в перечень самых пошлых, бросающихся в глаза черт», извлеченных из расхожих анекдотов. Поверим в этом автору, он и сам отыскивает в русской ментальности множество странных (и, разумеется, отрицательных) черт. Иллюзия — она ведь для всех иллюзия, хотя всегда находишь психологическое оправдание: идеалы присваивать себе, а уж «черты» отдавать чертям, то есть недругам и соперникам.
«Тип» — не схема, неизменно всё та же, его развитие — основная черта ментальности. И для русского «типа» — также.
Франц Шубарт [2000: 11 и след.], описывая «зоны мировой истории», указал четыре архетипа человека, как они представлены в развитии человеческих типов. Накладывая эти архетипы на русскую историю, видишь, что именно собирательная их последовательность представляет собой законченность русского ментального «типа» в истории, и в этом его универсальность. Более того, сам мир в своих «зонах» изменяется по таким архетипам, в каждый исторический момент представая в своем своеобразии.
Гармоничный человек живет в природном согласии с миром, и мир предстает как космос; таков статичный мир древнего язычника, который влит в Природу и составляет с нею нечто единое.
Героический человек готов к господству над миром; он видит хаос, который хотел бы упорядочить, подчиняя собственной воле. И всё приходит в движение, как пришел в движение средневековый славянин в своем богатырстве.
Аскетический человек воспринимает мир как некое заблуждение, он ищет достойной мира сущности, которая, кажется ему, скрывается в мистической сути вещей. Это снова момент статики, некое бегство от мира — в скиты, в пустыни, в дикие дебри. Таков и русский — уже собственно русский — человек, каким он является в XIII—XV вв., или даже чуть позже: уставший от битв, не давших победы, забывший предков в обольщениях христианства. «Русский реализм» ведет свои тайны отсюда, из этой исторической точки, из этой силы.
Мессианский человек имеет иную задачу: он призван создать из хаоса мира и идеалов души некий божественный порядок, добиться освящения мира в новом единении или, как говорит немецкий автор, предстает «космической взволнованностью» в «ощущении целостности»: «мессианское жизнеощущение русских восходит к XVI столетию» (намек на Филофея, возгласившего Москву третьим Римом) «славянские народы стали мессианскими, потому что они пережили более кровавую и полную страданий историю по сравнению с другими нациями» [Шубарт 2000: 68, 70].
Силы мира, которые сплелись на порубежьях Земли, ведь «из духа земли вырастает душа народа», и эти силы «фундаментальнее и прочнее сил крови» [Там же: 15—16].
И прогноз, печальный как правда: «До тех пор пока мессианская душа надеется спасти мир, лишенный ее гармонии, она еще не достигла предела своих мучений. Но напряженность между внутренним и внешним может дойти до такой степени насилия, что это становится невыносимым...» [Там же: 71]. Спасает до времени только одно: с нигилизмом русское мессианство вступает в стадию своего вырождения.
Действительно, современное состояние русского народа непроизвольно вызывает к жизни такие особенности его ментальности, важные при оценке критической ситуации, которые поражают воображение внешних наблюдателей. Именно ментальность во многом берет на себя роль внутреннего системообразующего фактора, скрепляющего общности, помогающего сохранить их, спасти от распада. Многие особенности современной социальной жизни подтверждают, что сегодня происходит «ментальное сопротивление чуждым инновационным нововведениям» (например, «темпы роста бюрократии пропорциональны степени ментального неприятия чуждых нововведений» и т. д. [Падерин 2001: 219].
Уже два века русские мыслители указывают, какие именно традиционные русские ценности могут лечь в основу цивилизации третьего тысячелетия (ср.: [Иванов 1999]). Это и почитание родной Земли как великой святыни, которую нельзя отдать никому («из духа Земли вырастает душа народа»). Это и дух всемирной отзывчивости, и жертвенное служение обществу в идее соборного социального единения, и нравственное искание Правды, потому что Правда есть истина в справедливости. Перед смертью Иван Тургенев сказал: «В том-то и дело: Истина не может доставить блаженства. Вот Правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена, но как „обладать ею“? Да еще находить в этом блаженство?» Совсем не патетично звучат слова, завершающие статью русского автора: «Если мы победим в битве за Великую Россию — в мире не будет проигравших; если мы проиграем битву за Великую Россию — в мире не будет победителей» [Иванов 1999: 96]. Ни высокомерия, ни шовинизма в этом нет. О том же сказал и немец, только накануне Второй мировой войны: западный, «прометеевский человек уже отмечен печатью смерти. Да явится иоанновский человек!» [Шубарт 2003: 308]. И вот явились русские люди — «иоанновской веры» — и на время спасли мир.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК