Царь Эдип
Царь Эдип
Р. К. Что вы вспоминаете об обстоятельствах, приведших к сочинению «Царя Эдипа»? Как далеко простиралось выше сотрудничество с Кокто в работе над сценарием и текстом? Какова была цель перевода либретто на латинский язык и почему на латинский, а не на греческий-г-или, если на латинский, то почему не прямо с греческого? Каковы были ваши первоначальные планы спенической постановки этой вещи и почему они никогда не были осуществлены? Что вы подразумевали под оперой- ораторией? Как бы вы определили религиозный характер этой вещи, если вы согласны с теми, кто усматривает в ней религиозные черты? Не разъясните ли вы, что вы называете музыкальными манерами (manners) данного произведения? И что вы еще можете добавить относительно постановки сценической истории этой вещи?
И. С. Я датирую начало работы над «Царем Эдипом» сентябрем 1925 г., но по меньшей мере за пять лет до того я почувствовал потребность в сочинении драматического произведения крупного масштаба. Возвращаясь тогда из Венеции в Ниццу в сентябре же, я остановился в Генуе, чтобы обновить воспоминания об этом городе, где в 1911 г. я отмечал пятилетие моей свадьбы. Здесь в книжном киоске я обнаружил книжку о жизни Франциска Ассизского, которую купил и прочел в тот же вечер. Этому чтению я обязан формированием мысли, которая часто, хотя и в смутных очертаниях, являлась мне с тех пор, как я сделался deracine. [141] Мысль заключалась в том, что текст, используемый в музыке, мог бы приобрести монументальность путем, так сказать, обратного перевода со светского на священный язык. «Священный» —
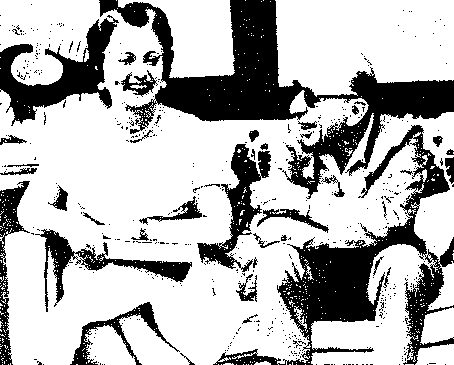
Дома, в Голливуде
(с Верой де Боссе)

В студии звукозаписи с Э. Варезом и Р. Крафтом
 На репетиции «Агона» с Дж. Баланчиным
На репетиции «Агона» с Дж. Баланчиным
могло бы означать всего лишь «старинный», так же, как можно было бы сказать, что язык библии короля Якова I более священный, чем язык новой английской библии, хотя бы из-за большего возраста первой. И я подумал, что более старый, даже полузабытый язык, должен содержась в звучании речи заклинатель- ный (incantatory) элемент, который мог бы быть использован в музыке. Подтверждением у Франциска Ассизского служило иератическое [142] использование провансальского диалекта, языка ренессансной поэзии на Роне в отличие от его повседневного итальянского или латыни медного века. До момента этого озарения в Генуе я был не в состоянии разрешить проблему языка моих будущих вокальных сочинений. Русский язык, изгнанник моего сердца, стал музыкально недоступным, а французский, немецкий и итальянский были чужды моему темпераменту. Когда я работаю над словом в музыке; мои музыкальные слюнные железы возбуждаются звучаниями и ритмами слогов. «В начале было слово», — для меня буквальная прямая истина. Но задача была решена, и поиски «un риг langage sans office»*(Сен-Жон Перс) закончились вторичным открытием мною Цицероновой латыни.
Решение сочинить произведение по Трагедии Софокла последовало вскоре после моего возвращения в Ниццу, и выбор был предопределен. Мне нужен был сюжет общечеловеческий или, по меньшей мере, настолько известный, чтобы он не нуждался в подробном изложении. Я хотел оставить пьесу как таковую на заднем плане, думая, таким образом, извлечь ее драматическую сущность и освободить себя, чтобы в большей степени сосредоточиться на чисто музыкальной драматизации. При размышлении над Усюжетами в памяти возникали различные греческие мифы, и затем, почти автоматически, я подумал, о пьесе, которую больше всего любил в молодости. В последний момент сомнений я вновь подумал о возможности использования современного перевода одного из мифов; только «Федра» отвечала задуманной мной статуарности, но какой музыкант мог бы дышать в ее метре?
Я избрал сотрудничество Кокто потому, что был восхищен его «Антигоной». Я сообщил ему свои соображения и предупредил, что хочу не драму с действием, но нечто вроде «натюрморта». Я сказал также, что мне потребуется обычное либретто с ариями и речитативами, хотя знал, что «обычное» не было его сильнейшей стороной. Мне показалось, что он увлечен этим проектом, исключая перспективу переделки фраз при переводе на латынь, но его первый набросок либретто был именно тем, чего я не желал: музыкальной драмой в мишурной прозе.
«Музыкальная драма» и «опера», конечно, давным-давно слились воедино, но тогда в моем представлении это были устойчивые категории, и я даже пытался отстаивать столь шаткое мнение, как то, что в «музыкальной драме» оркестру предоставлена большая и более внешняя поясняющая роль. Теперь я заменил бы эти термины на «оперу в стихах» и «оперу в прозе», отождествив эти новые понятия с такими чистыми примерами, как мои «Похождения повесы» для первой и «Ожидание» Шёнберга для второй. Независимо от их искусственности, подразделения такого рода необходимы для меня в процессе формообразования.
Кокто был более чем терпелив ко мне и к моей критике. Все либретто было переделано дважды, и даже после этого предоставлено мне для заключительной стрижки. (В душе я специалист по подстриганию деревьев, и моя любовь к подстриганию вещей доходит до мании.) Что в либретто принадлежит самому Кокто? Я уже не в состоянии этого сказать, но думаю, что форма в меньшей степени, чем строение фраз. (Я не говорю об обычном у меня приеме повторения слов, который ведет начало от времени, когда я начал сочинять.) Роль рассказчика принадлежит Кокто, как и мысль, что он должен быть во фраке и держать себя как конферансье (что на практике слишком часто означало — как церемониймейстер). Но музыка идет помимо слов, и она была внушена трагедией Софокла.
Я начал представлять себе постановку тотчас же, когда принялся сочинять музыку. Сначала я увидел хор, посаженный в один ряд поперек сцены, от одного конца дуги просцениума до другого. Я думал, что певцы должны были бы казаться читающими по свиткам, и что видны должны быть только эти свитки и контуры капюшонов на головах артистов. Прежде всего и глубже всего я был убежден в том, что хор не должен иметь лица.
Моя вторая идея заключалась в том, что актеры должны носить котурны и стоять на возвышениях — каждый на своей высоте позади хора. Но актеры — это неверное выражение. Никто здесь не «действует», [143] единственный, кто вообще двигается, это рассказчик, и то лишь для того, чтобы подчеркнуть свою обособленность от прочих фигур на сцене. «Царя Эдипа» можно считать или не считать оперой по его музыкальному содержанию, но он совершенно не оперный в смысле движения. Персонажи этой ^ пьесы общаются друг с другом не жестами, а словами. Они не поворачиваются, чтобы слушать речи других лиц, но обращаются прямо к публике. Я думал, что они должны стоять неподвижно, и вначале даже не допускал сценических уходов и выходов. По моей первой мысли персонажи должны были появляться из-за отдельных маленьких занавесов, но я потом понял, что того же эффекта проще достигнуть посредством освещения. Подобно Командору, певцы должны быть освещены во время арий и превращаться в вокально, если не физически, гальванизированные статуи. Сам Эдип должен, конечно, все время стоять на виду, за исключением места после «Lux facta est», когда ему нужно сменить маску. (Это может быть сделано за его занавесом или в темноте.) Его насилие над собой описывается, но не изображается в действии: он не должен двигаться. Постановщики, которые удаляют его со сцены, а затем возвращают обратно, правдоподобно шатающегося в неправдоподобном стилизованном костюме, ничего не поняли в моей музыке.
Меня часто спрашивают, зачем мне понадобилось сочинить оперу-паноптикум. Я отвечал, что питаю отвращение к веризму, но полный ответ был бы более определенным и более сложным. Прежде всего, я считаю такое статичное представление наиболее действенным способом сосредоточить трагедию не на самом Эдипе и других персонажах, но на «роковом развитии», в котором для меня заключен смысл этой пьесы. Эдип, как человек, — это объект для символической трактовки, которая зависит от истолкования случая и является в основе своей психологической. Это не привлекало меня как материал для музыки, а если бы и привлекло, я построил бы драму иначе — например, добавил бы сцены детства царя. Моя публика не безразлична к судьбе этого персонажа, но я думаю, она гораздо больше заинтересована персоной судьбы и изображением ее, что может быть осуществлено исключительно музыкой. Но поскольку зрительная реализация может усилить эффект, фигуры на сцене делаются драматически более изолированными и беспомощными именно потому, что они пластически немы, и изображение личности как жертвы обстоятельств при таком статичном представлении оказывается намного более впечатляющим. Пересечения дорог являются не личными, а геометрическими фактами, и меня интересовала именно геометрия трагедии, неотвратимое пересечение линий.
Меня также спрашивали, почему я не сделал еще один шаг и не использовал куклы, как однажды сделал мой покойный друг
Роберт Эдмонд Джонс для постановки «Эдипа» в Нью-Йорке. Эта мысль, действительно, приходила мне в голову, и на меня произвели впечатление куклы Гордона Крэга, когда он демонстрировал их мне в Риме в 1917 г. Но я также люблю маски, и во время сочинения первой арии Эдипа я уже представлял его себе в светлой стрельчатой маске наподобие китайского бога солнца — точно так же, как сочиняя музыку Дьявола в «Потопе», я воображал себе певца, кажущегося прозрачным, как скорпион.
Мои постановочные замыслы [144] не были осуществлены просто иэ-за того, что у Дягилева не хватило времени для постановки при премьере, и так как премьера прошла без сценического оформления, многие решили, что я предпочел давать вещь именно в таком виде. «Царь Эдип» был сочинен в подарок к 20- летию дягилевского балета- «Un cadeau tres macabre», [145] — как сказал Дягилев. Существование этой вещи скрывалось от него до последнего момента, и я запаздывал с окончанием партитуры настолько, что певцы едва выучили ноты к предварительному прослушиванию под рояль, состоявшемуся у княгини Эдмон де Полиньяк всего за несколько дней до публичного исполнения. На этом вечере я сам аккомпанировал певцам и по реакции гостей понял, насколько мала вероятность успеха «Эдипа» у парижской балетной публики. Но мой аскетический концерт с пением, следовавший за одним весьма красочным балетом, оказался еще бблыпим провалом, чем я ожидал. Публика была едва ли более, чем вежливой, а служители прессы и того меньше; «Celui qui a compose Petrouchka nous presente avec cette pastishe Handelienne… Un tas de gens mal habilles ont mal chant6… La musique de Creon est une marche meyerbeerienne», [146] и т. д. В последующие два десятилетия «Эдип» редко исполнялся, но затем его стали давать все чаще и чаще.
Должен заметить, что на премьере Дягилев отнесся к «Эдипу» холодно, я думаю, из-за Кокто. Во всяком случае на роль рассказчика был умышленно выбран очень красивый и очень молодой человек, и это, разумеется, было сделано назло Кокто, который, сочиняя текст, вероятно предназначал эту роль для себя самого.
Я дирижировал лишь несколькими спектаклями и видел мало других постановок. (Из недавних мне следовало бы упомянуть о постановке в Венской опере, где «е peste» [147] звучало так, будто певцы действительно болели чумой, а также о постановке в Вашингтонской опере, где белые лица хористов блестели на прямоугольных башнях, как дыры в эмментальском сыре.) Из всех постановок в сценическом отношении мне больше всего понравилась постановка Кокто в театре Елисейских полей в мае 1952 г. Его огромные маски были замечательны, как и использование символического мима, хотя это и противоречило моему замыслу. Меня коробит, когда я вспоминаю первые спектакли берлинской Кролл- Onepf, хотя музыкальная часть была хорошо подготовлена Отто Клемперером. На рассказчике был черный костюм Пьеро. Я посетовал режиссеру, что это не подходит к истории Эдипа, но его ответ не допускал дальнейших споров: «Херр Стравинский, в нашей стране носить фрак разрешается только капельмейстеру». На берлинском спектакле присутствовали Хиндемит и Шёнберг; первый казался hingerissen, [148] второй, вероятно, услышавший в этой вещи только пустые остинатные схемы и примитивные гармонии, — abgekiihlt. [149]
В каком смысле музыка «Эдипа» религиозна? Не знаю, как ответить на ваш вопрос, так как это слово соответствует в моем понимании не ощущениям или чувствам, а догматическим верованиям. В христианизированном «Эдипе» потребовалось бы, чтобы выяснение истины походило на аутодафе, а у меня не было интереса к таким вещам. Впрочем, могу заверить, что эта музыка сочинялась в период моей строжайшей и самой серьезной христианской ортодоксии. В начале сентября 1925 г. с гноящимся нарывом на правом указательном пальце я уехал из Ниццы, чтобы исполнить в Венеции свою Сонату для фортепиано. Я помолился в маленькой церкви вблизи Ниццы перед старой «чудотворной» иконой, но был готов к тому, что концерт придется отложить. Когда я выходил на подмостки в театре Ла Фениче, палец продолжал меня мучить, и я обратился к публике, заранее прося о снисхождении к недостаткам исполнения. Я сел за рояль, снял повязку и, почувствовав, что боль внезапно прекратилась, обнаружил, что палец чудесным образом исцелен. (Теперь я допускаю, что маленькие «чудеса» вызывают большее замешательство, чем даже самые большие натяжки «психосоматических» разумных объяснений, и читатель, дошедший до этого места, возможно, решит, что речь шла о maladie imaginaire. [150] И все же случившееся со мной было чудом; даже если это было нечто другое и называется другим словом, — уже то, что я увидел в этом чудо, знаменательно для читателя. Я, конечно, верую в сверхъестественный миропорядок.)
Через несколько дней после концерта в Венеции я обнаружил книжку о Франциске Ассизском и, прочитав ее, решил использовать язык, являющийся также языком западной церкви, а вскоре после этого остановил свой выбор на архетипе драмы очищения. Одновременно с «Царем Эдипом» я сочинил «Отче наш» в стиле русской литургии, и при сочинении хора Gloria, конечно же, находился под влиянием русского церковного ритуала: святая Троица символизируется тройными повторами, точно так же, как в Kyrie Мессы. Но, прежде всего, характер музыки Gloria церковный сам по себе.
Хотя я интересовался вопросами музыкальных манер всю свою жизнь, я все же не могу сказать точно, чем именно они определяются. Вероятно это объясняется тем, что они не предшествуют сочинению, но составляют сущность творческого акта: способ выражения и то, о чем говорится, — для меня одно и то же. Однако не придаю ли я этому понятию необычный смысл? Могу лишь сказать, что моя манера вытекает из моих личных взаимоотношений с музыкальным материалом. Je me rends compte [151] в нем. Через материал я открываю сЬои законы. Направление следующего мелодического интервала связано с музыкальными манерами всей вещи. Так, трель у кларнета в «Lux facta est» является демонстрацией моих манер в «Эдипе»: эта трель — не трель вообще, но обязательный элемент стильности. Мне говорили, что подобные вещи просто указывают на осознанность культуры, обнаруживаемую у всех эмигрантов, [152] но я знаю, что объяснение лежит глубже, поскольку и в России я мыслил и сочинял точно так же. Мои манеры — это родимое пятно моего искусства.
Я начал сочинять по плану музыкально-драматического развития, схеме речитативов и арий, где каждая ария Должна была отмечать решающий момент в развитии событий. Мой главный замысел заключался в том, чтобы каждый шаг драмы сопровождался сдвигом тонального центра вниз, отчасти в традиции композиторов барокко, хотя, поспешу добавить, я не следовал каким- либо образцам. Я не помню, чтобы в то время испытывал хищническое тяготение к другим композиторам, но если моя партитура и наводит на мысль о другом, то это — Верди. Многое в этой музыке — Merzbild, [153] образованное из того, что подвернулось под руку. Я говорю, например, о таких маленьких шалостях, как слабые доли в ц. 50 и альбертиевы басы в соло валторны, сопровождающем вестника. Я также имею в виду слияние столь полярно различных типов музыки, как мотив в духе Folies Bergeres в ц. 40 («Девушки входят, приплясывая») и вагнерианские септаккорды в цц. 58 и 74. Думаю, что эти кусочки и отрывки стали моими собственными и образовали единое целое. «Душа это форма, — говорит Спенсер, — и она создает тело». (Я отнес бы эту цитату и к «Поцелую феи». Услышав однажды сахаринный материал, послуживший источником для этой вещи, я чуть не умер от диабета.)
Каковы были мои первые музыкальные идеи для «Эдипа»? Но что такое музыкальная идея? Идея — это уже формулировка, не так ли? — но не предшествует ли ей что-нибудь? Я, во всяком случае, предчувствую свой материал задолго до появления каких- либо «идей» об его использовании. Я знаю также, что этот материал не может быть навязан «идеями»; в действительности происходит нечто противоположное. Все мои «идеи» для «Царя Эдипа» исходили из того, что я называю стихосложением — хотя под «идеями» вновь подразумеваю не более того, что уже описал как манеры. Что я имею в виду под «стихосложением»? Могу сказать только, что в настоящее время занимаюсь «стихосложением» с сериями, как художник другого рода может версифицировать с углами и числами.
Музыка «Эдипа» была сочинена от начала до конца в существующем порядке. Я не думал о вопросах манеры, сочиняя первый хор, но когда в арии Эдипа я почувствовал ее, я, пожалуй, излишне подчеркнул ее, иными словами, поступил слишком традиционно. Очевидно, я подумал, что должен закрепить ее во всей вещи. Музыкальная манера царя маскирует его «сердце», но, вероятно, не распущенный хвост его гордости.
Я ставлю слово «сердце» в кавычки, так как не верю, что греки употребляли его в нашем смысле, или, по меньшей мере, придавали наше значение; даже связывая сердце с темпераментом, они в своей космогонии эмоциональных органов старательно уравновешивали его печенью. (Греки должно быть угадали, кстати, что печень регенеративный орган, хотя медицина лишь недавно установила этот факт, иначе наказание Прометея не имело бы значения кары: птицы получили бы от него всего лишь hors- d’oeuvre. [154] ) Но поскольку журналисты могут настаивать на полезности терминов «сердце» и «бессердечие», «холодность» — ключевое слово в большинстве нападок на «Эдипа», — это пропаганда, продиктованная примитивным желанием скорее оценивать, нежели описывать. Скажите, пожалуйста, что такое «теплый?» Schmaltz? [155] И холодный или теплый первый канон «Гольдберг- вариаций»?
Полезная критика стремилась бы описать эффект, вызванный тем, что в миноре так часто употребляется гармоническая доминанта. Она изучала бы также природу ритмического стиля музыки, внушенного самим Софоклом, или точнее — метрикой хора (в особенности простыми хореямбами, анапестами и дактилями, более, чем дохмиями и гликониксами). Кажется, никто не отметил, что там, где Софокл, использовал ритм, который можно было бы назвать |, я взял g, и что как раз там, где хор поет о богах в дактилях на, мой Креон, который находится на стороне богов, поет в том же метре. В общем, я использую ритмическую статику тем же путем, что и Софокл. Прислушайтесь, например, к эпизоду хора в его драме непосредственно перед появлением пастуха. Ритмы в «Эдипе» более статичны и правильны, чем в любом другом моем сочинении, написанном к тому времени, и напряжение, создаваемое ими, — например, в хоре «Mulier in vestibulo» — большее, чем могло бы быть при неправильных с перебоями ритмах. Но как раз этот хор — я называю его погребальной тарантеллой — отмечался как кусок неуместного веселья, как балетная кода, даже как канкан людьми, которые не располагают собственной музыкальной манерой. Ритмы — основной источник драматического напряжения и главный элемент в воплощении драмы. Если мне удалось вморозить драму в музыку, то в значительной мере средствами ритмики.
Мои указания к исполнению «Эдипа» немногочисленны. Я повторяю хор Gloria после речи рассказчика по двум причинам; во- первых, мне нравится этот хор, во-вторых, я предпочитаю прямо, минуя рассказ, переходить от Соль-мажорного tutti к соло флейты и арфы в соль миноре. И в сценических исполнениях я люблю намекать публике, что царица-мать многое может сказать, делая паузу перед ее словами. Следует упомянуть также, что я предпочитаю версию партитуры 1948 г. Переделки в ней были вызваны не только соображениями авторского права; они были сделаны в рукописи сразу после премьеры. Я говорю о таких вещах, как добавление валторн и тубы в хоре «Aspikite», трубы в «бекмессе- ровской» арии1 «Nonne Monstrum». Я также советовал бы дирижерам, чтобы партия самого Эдипа пелась не большим оперным голосом, а лирическим. Певец, исполняющий партию Эдипа, должен пользоваться динамическими контрастами, и здесь динамические оттенки чрезвычайно существенны. Первая ария, например, должна исполняться спокойно, ее нельзя орать, и ме- [156] лизмы следует исполнять ритмически строго.
Мои критические замечания к «Царю Эдипу»? Слишком просто и, что хуже, слишком поздно критиковать спустя тридцать пять лет, но я ненавижу партию рассказчика, эти мешающие серии перерывов, и мне не очень нравятся сами речи. «И tombe, il tombe de haut»2 — откуда же еще, в самом деле, при наличии силы тяжести? (По-английски, впрочем, получается не лучше: «Он падает головой вниз» звучит как описание прыжка пловца в воду.) Строка «А теперь вы услышите знаменитый монолог: Божественная Иокаста мертва» невыносима своим снобизмом. «Знаменитый» для кого? И никакого монолога не следует, всего лишь спетая телеграмма в четыре слова. В другой строке упоминается «свидетель убийства, пришедший из царства теней»; меня. всегда интриговало, кем бы мог быть этот интересный герой и что с ним могло статься. Но самая отвратительная фраза — финальное «on t’aimait»3 — этот журналистский заголовок, эта клякса сентиментальности, совершенно чуждая стилю произведения. Но, увы, музыка была написана с этими речами, и они задают ее поступь.
Музыка? Я люблю ее, всю целиком, даже фанфары Вестника, которые напоминают мне сильно потускневшие теперь старые фанфары кинофирмы «XX Century-Fox». Неоклассицизм? Отбросы стиля? Искусственные жемчуга? Что же, кто из нас не является
сегодня опутанной условностями устрицей? Я знаю, что по нынешним прогрессивно-эволюционным стандартам музыка «Эдипа» оценивается нулевым баллом, но думаю, что, несмотря на это, она сможет продержаться еще некоторое время. Знаю также, что связан — только как отросток — с немецким стволом (Бах — Гайдн — Моцарт — Бетховен — Шуберт — Брамс — Вагнер — Малер — Шёнберг); здесь существенно лишь, откуда вещь происходит и куда она приведет. Но быть отростком — может быть и преимущество. (IV)
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Нужен ли России царь?
Нужен ли России царь? Вопрос о нужности или ненужности царя для России имеет два аспекта – конъюнктурный и принципиальный, поэтому тут возможны четыре варианта ответа: сейчас нужен, а вообще нет; сейчас не нужен, а в принципе нужен; не нужен ни сейчас и никогда; нужен и
Царь Соломон
Царь Соломон До сих пор по просторам Азии летает царь Соломон на своем чудесном летательном приборе. Многие горы Азии увенчаны или развалинами, или камнем с отпечатками ступни великого царя, или отпечатками колен его, следами длительной молитвы. Это все так называемые
11. Наконец Эдип
11. Наконец Эдип В территориальной машине или даже деспотической общественное экономическое воспроизводство никогда не бывает независимым от человеческого воспроизводства, от общественной формы этого человеческого воспроизводства. Семья поэтому является открытым
Царь Соломон
Царь Соломон До сих пор по просторам Азии летает царь Соломон на своем чудесном летательном приборе. Многие горы Азии увенчаны или развалинами, или камнем с отпечатками ступни великого царя, или отпечатками колен его, следами длительной молитвы. Это все так называемые
ЦАРЬ И ЕГО ВАССАЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ
ЦАРЬ И ЕГО ВАССАЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ Кёльн, 8 мая. Говорят, что французский посол в Берлине заявил протест против вступления пруссаков в Саксонию.Итак, французское правительство видит, наконец, что восточноевропейская контрреволюция угрожает и ему, что новый Священный союз имеет
АНТИ-ЭДИП
АНТИ-ЭДИП АНТИ-ЭДИП - парадигмальная фигура постмодернистской философии, фиксирующая отказ последней - в общем контексте переосмысления феномена детерминизма - от презумпции принудительной каузальности, предполагающей наличие внешней (по отношению к объекту изменений)
ЦАРЬ ХАРША
ЦАРЬ ХАРША Если рассказы Сюань-цзана об умственном состоянии Индии во времена его посещения и пребывания при дворе Харши покажутся нам чересчур украшенными настроением буддийского жреца, нам достаточно будет обратиться к истории Харши, написанной по-санскритски Баной,
Глава III. Эдип и жертва отпущения
Глава III. Эдип и жертва отпущения Современное литературоведение и литературная критика — это изучение форм или структур, свод, система, решетка или код максимально точных и тонких различий, все более дробных оттенков. Хотя метод, который нам нужен, и не имеет никакого
Сириус — Царь-звезда
Сириус — Царь-звезда Лишь немногие звезды названы безотносительно к их месту в созвездии или вообще на небе. Важнейшей из них является самая яркая звезда земного неба Сириус. Это название принято производить от греческого Сериос, т. е. «жгучий, знойный». При этом
ЧЕЛОВЕК КАК ЦАРЬ ПРИРОДЫ
ЧЕЛОВЕК КАК ЦАРЬ ПРИРОДЫ Жизнь Иоганна Готфрида Гердера (1744—1803 гг.), как и жизнь практически всех немецких философов рубежа XVIII—XIX веков, не слишком полна приключениями и острыми событиями. Выходец из маленького восточнопрусского городка Морунген, он в 1762 г. поступил на
Эдип
Эдип Разговор последнего философа с самим собою.Отрывок истории будущих времен (Весна 1873)Я называю себя последним философом, потому что я – последний человек. Никто не говорит со мною, кроме меня самого, и голос мой раздается, как голос умирающего. О, дорогой голос, дай мне