Философия русского марксизма
Марксизм становится популярным в России в последней трети XIX в., и в дальнейшем его влияние расширяется с каждым последующим десятилетием. В XX в. он оказывается одним из влиятельных направлений русского общественного развития. Марксизм, как справедливо утверждал С.Н. Булгаков, «оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения». Он воспринимался в России прежде всего как социально-экономическое учение, позволяющее обозначить пути преобразования России в демократическое общество. Для самых разных людей (от университетских профессоров и до рабочих) марксизм превращался в путеводную звезду будущего развития. И как это всегда было в России, иностранные идейные влияния и концепции не просто воспринимались и пропагандировались, а творчески перерабатывались в соответствии с национальными традициями. Марксизм на русской почве оказался самобытным направлением общественной мысли, органически впитав в переработанном виде традиции революционных демократов, бакунизма и т. д. Наиболее яркие представители русского марксизма зачастую развивали те или иные интенции, заложенные в марксистской теории. Марксизм как всякая исторически значимая концепция изначально был плюралистическим: единым по основаниям, но творческим по интерпретациям этих оснований и выводам. Это позволяло ему развиваться, обобщая и переосмысливая те общественные и культурные изменения, которые происходили в мире на протяжении многих десятилетий. Поэтому в конце концов оказалась несостоятельной ведущая в советской историографии тенденция определять в соответствии с политической коньюнктурой «истинный», «аутентичный», «единственно правильный» марксизм и представлять все другие его модификации как «ревизионизм», «антимарксизм» и т. д. Русский марксизм оказался одним из магистральных путей развития марксизма на инонациональной почве, продемонстрировав получение исторически значимых результатов в новых исторических и общественных обстоятельствах. Можно по-разному оценивать русский марксизм («марксизм-ленинизм»), особенно в свете современной ситуации, однако его значение несомненно: вне его теории и практики непредставима история XX в.
Если говорить о философии русского марксизма рубежа веков, то ее изучение требует, во-первых, постоянного учета органического единства всех «частей» марксизма (по традиционной в советской литературе схеме «трех составляющих частей марксизма» – философии, политэкономии, научного коммунизма), хотя сегодня даже с позиций современных марксистских исследований подобная схема требует существенных уточнений; во-вторых, понимания возможностей различных интерпретаций основополагающих марксистских идей; в-третьих, осмысления тенденций «творческого» развития главных философских интенций марксизма под влиянием изменяющейся исторической реальности, прежде всего революционного изменения российской действительности; в-четвертых, учета сложной динамики становления и развития идей русского марксизма в процессе взаимодействия и борьбы с западноевропейским марксизмом (Э. Бернштейном, К. Каутским и др.). Во всяком случае с первых шагов существования русский марксизм (при всем его стремлении к «ордотоксальности» по отношению к отцам-основа-телям) убедительно демонстрирует оригинальность подхода к основам марксистской теории, разрабатывает идеи и концепции, далеко уходящие от выводов родоначальников. Именно эта особенность русского марксизма создавала предпосылки для появления различных концептуальных разработок. Наиболее интересные из них представлены в творчестве Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, А.А. Богданова.
Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) родился в с. Гудиловка Тамбовской губернии в семье отставного гусарского офицера. Мать Плеханова, племянница В.Г. Белинского, оказала большое влияние на формирование мировоззрения сына. После окончания Воронежской гимназии он пытался учиться в Константиновском юнкерском училище, но вскоре перешел в Горный институт (1874–1876), который не закончил, так как посвятил себя революционной борьбе. Плеханов активно участвовал в народническом движении («Земля и воля» 70-х гг., хождение в народ, руководство кружками, в том числе и рабочими), затем увлекся «рабочим делом». Он неоднократно подвергался арестам, вынужден был эмигрировать (1880). В 1883 г. Плеханов организует первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда», активно участвует в международном марксистском движении, занимает видное место среди социалистов Западной Европы и Америки. В течение ряда лет он представляет Российскую социал-демократическую рабочую партию в Международном социалистическом бюро II Интернационала. Плеханов был близок к Ф. Энгельсу, а в российском революционном движении часто занимал жесткую позицию по отношению к В.И. Ленину и большевикам, склоняясь к меньшевизму.
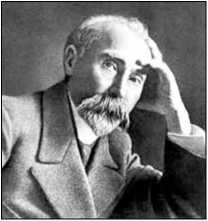
Г.В. Плеханов
После февральской революции он вернулся в Россию, но категорически не принял Октябрьскую революцию, так как она, по его мнению, явилась «нарушением исторических законов» (двухтомник «Год на родине»).
Плеханов был не только видным деятелем международного рабочего движения, но и крупным теоретиком и пропагандистом марксистского учения. Он перевел на русский язык «Манифест Коммунистической партии» и другие произведения основоположников марксизма. Русский марксист много и плодотворно занимался теоретическими проблемами, в том числе и философскими. Необходимо помнить, что в то время, когда Плеханов занимался теоретическими проблемами марксизма, философский компонент этого учения еще не был разработан. В России предпринимались попытки доказать, что философия марксизма не была разработана и его основоположниками (С.Н. Булгаков и др.), а потому требует новых подходов в осмыслении. Работы Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «Очерки по истории материализма» во многом способствовали разработке философии марксизма и «воспитанию целого поколения русских марксистов» (В.И. Ленин).
Философскими проблемами русский марксист занимался целенаправленно и профессионально. С одной стороны, он предпринял попытку изложения и популяризации марксистской философии в контексте всемирной истории философии, прежде всего ее материалистической традиции, с другой – предложил собственную философскую концепцию, органически впитывавшую русские философские интенции, прежде всего бакунизм.
Исходный пункт философствования Плеханова – твердая уверенность в том, что именно благодаря Марксу материалистическая философия возвысилась до цельного, гармонического и последовательного миросозерцания. Таким образом, философия рассматривается Плехановым и как мировоззрение, и как определенная наука, имеющая собственное предметное поле. Она как бы совпадает с научным исследованием и одновременно контрастирует с ним, так как занимается теми же задачами, на решение которых направляется научное исследование. Однако философия в своем взаимодействии с наукой дуалистична. Она, во-первых, «стремится опередить науку, давая свои гадательные решения»; во-вторых, «резюмирует», подвергает «дальнейшей логической разработке решения, уже найденные наукой» (Плеханов). Первая функция позволяет философии формулировать и разрабатывать гипотетические идеи, стимулирующие научные исследования; вторая – углублять и осмысливать уже найденные наукой решения с точки зрения единых, монистических законов существования и развития мира. Философия оказывается то локомотивом, двигающим научное освоение мира, то методологическим, смыслообразуюшим фундаментом научного поиска. В будущем, по мнению Плеханова, интенсивное развитие точных наук окажется настолько глубоким и содержательным, что обязательно отпадет необходимость в философских гипотезах. В настоящем же, длительной его перспективе философия и науки изучают единую действительность на разных уровнях – философия изучает мир как целое, доходя до сущности вещей; науки изучают мир по частям. Разумеется, Плеханов имеет в виду материалистическую философию. Последняя составляет закономерный этап развития мировой философии, характеризующийся прежде всего диалектическим методом. Плеханов пишет, что новый материализм, т. е. марксизм, обогащается всеми приобретениями идеализма, самое важное среди которых – диалектический метод, т. е. рассмотрение явлений в их развитии, в их возникновении и уничтожении. Поэтому с точки зрения русского философа марксистская философская система состоит из диалектики как метода и универсальной теории развития («душа» системы), философии природы и философии истории. Плеханов много страниц посвятил последовательному анализу сущности, структуры и закономерностей диалектики и сформулировал их в сжатом виде так:
1. Все конечное таково, что оно само себя снимает, переходит в свою противоположность….
2. Постепенные количественные изменения данного содержания превращаются в конце концов в качественные различия. Моменты этого превращения – это моменты скачка, прерыв постепенности».
Философия природы Плеханова исходит из объективного существования материальной субстанции, находящейся в постоянном процессе развития. Материя, природа отражаются в сознании человека (прежде всего через ощущения), реализуя процесс познания как объектно-субъектный процесс. Мир поэтому для русского мыслителя принципиально познаваем, хотя изредка Плеханов склонялся и к кантовской идее вещи в себе. Исследуя процесс познания как постижение объективной реальности, он зачастую принимает аргументацию теории иероглифов, по которой «наши представления о формах и отношениях вещей не более как иероглифы», скорее помечающие объективный мир, чем содержательно воспроизводящие его. И все же Плеханов настаивает на том, что иероглифы точно обозначают формы и отношения объективного мира, так как материальное и идеальное имеют тот же самый смысл. Русские марксисты (особенно В.И. Ленин) настоятельно стремились подчеркнуть иероглифическую ошибку Плеханова, тогда как она фактически характеризовала особенности его гносеологической позиции, в которой проблемы субъективной диалектики и активной роли познающего субъекта остались на втором плане, фактически не нашли глубокой адекватной разработки. В конечном итоге русский марксист был уверен не только в том, что иероглифы дают адекватную информацию об объективном мире, но и в том, что ее «достаточно, чтобы мы смогли изучить действия на нас вещей в себе и в свою очередь воздействовать на них».
Философия истории Плеханова (хотя он пользовался и понятием «исторический материализм») базируется на разработанной Марксом теории материалистического понимания истории, в которой настойчиво подчеркивается монистическое начало. Монистическое начало, по мнению Плеханова, должно корректировать структуру определяющей роли экономических отношений за счет выделения «оснований», субстратов этих отношений, сводящихся прежде всего к географической среде. Географическая среда детерминирует характер производительных сил, которые в свою очередь создают предпосылки для скачкообразного развития «надстройки». Отношения между базисом и надстройкой в сжатом виде описываются Плехановым следующим образом:
«1) состояние производительных сил;
2) обусловленные им экономические отношения;
3) социально-политический строй, выросший на данной экономической «основе»;
4) определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем психика общественного человека;
5) различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики».
Можно по-разному интерпретировать выводы Плеханова, однако нельзя не констатировать их творческий характер, стремление найти свои аспекты решения ключевых вопросов марксистской теории. Заслугой русского мыслителя является и творческая разработка роли личности, народа, партий в историческом развитии, проблемы отношения России к Востоку и Европе. В совокупности это позволяет говорить о наличии «плехановской школы» в марксизме[375].
Александр Александрович Богданов (Малиновский) (1873–1928) родился в г. Сокулка Гродненской губернии в семье учителя. После окончания Тульской классической гимназии (1892) он поступил в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета, которое вынужден был оставить в 1894 г. в связи с участием в студенческих волнениях, завершившимся его арестом и высылкой из Москвы. В 1899 г. Богданов окончил медицинский факультет Харьковского университета. Активный участник народнического и социал-демократического движения в России, он неоднократно подвергался репрессиям. Будучи активным деятелем большевистской фракции, в которой он занимал самостоятельную позицию, Богданов выступал в качестве оппонента В.И. Ленина, за что и был в конце концов исключен из нее (1909).

А.А. Богданов
(Малиновский)
После Октябрьской революции Богданов был членом Коммунистической академии, читал лекции в МГУ, являлся одним из организаторов и главных идеологов Пролеткульта. Будучи организатором и директором первого в мире Института переливания крови, Богданов погиб, произведя на себе неудачный опыт.
Богданов был разносторонне талантлив. Он оставил интересное научное (политэкономия, философия, социология, естественные науки) и художественное (романы «Красная звезда», «Инженер Мэни») наследие. Формирование и развитие мировоззрения Богданова было сложным и противоречивым. Его философские взгляды эволюционировали от стихийного материализма («Основные элементы исторического взгляда на природу», 1899) через увлечение энергетизмом В.Ф. Оствальда («Познание с исторической точки зрения», 1901) и махизмом («Эмпириомонизм. Статьи по философии», кн. 1–3, 1904–1906) к разработке собственного философского учения, в основе которого лежали концепции Маркса о действительности как о социальной практике и о философии как о средстве активного изменения мира. Полностью принимая основные положения исторического материализма, Богданов стремился развить их философские основания за счет создания так называемой организационной теории, в которой фактически осуществлялось преодоление философии в традиционном смысле этого термина. Отсюда и резкая критика его идей школой Плеханова и школой Ленина. Богданов отстаивал свою позицию прежде всего аргументированными ссылками на творческий характер марксистской философии, которую ни в коем случае нельзя фетишизировать и абсолютизировать, превращать в символ веры, как, по его мнению, делал Ленин.
Марксистская философия (как и всякая наука), с точки зрения Богданова, должна постоянно развиваться в соответствии с новыми научными и философскими достижениями. Последние, как ему казалось, связаны с критической философией Э. Маха, позволяющей преодолеть диалектический метод, не получивший полной ясности и законченности ни у Гегеля, ни у Маркса. «За последние полвека, – утверждал Богданов, – на сцену выступили две новые философские школы, связанные с именами К. Маркса и Э. Маха… я имею честь принадлежать к первой из этих философских школ, но, работая в ее направлении, стремлюсь, подобно некоторым моим товарищам, гармонически ввести в идейное содержание этой школы все, что есть жизнеспособного в идеях другой школы». Результатом явилось создание философии эмпириомонизма, противопоставленной диалектическому материализму. Эмпириомонизм предполагал анализ действительности, исходя из физического и психического опыта в генетической связи первого и второго как опыта коллектива и индивидуального; исследование исходных философских понятий (материя и дух, субстанция и т. д.) как идолов и фетишей познания, порожденных трудовыми отношениями людей в определенную эпоху; интерпретацию истины как организующей формы коллективного опыта, стремление доказать, что общественное бытие и общественное сознание, в точном смысле этих слов, тождественны. Развитие эмпириомонистической системы в конечном итоге приводит русского марксиста к созданию «всеобщей организационной науки» (тектологии), которая не только снимает философские поиски в традиционном смысле, но и является рычагом построения будущего социалистического общества. Богданов рассматривает действительность как поле коллективного труда, как сложный процесс взаимодействия человеческой активности и стихийного сопротивления природы. Многообразные сочетания «активностей-сопротивлений» (Богданов) в борьбе человека и природы образуют комплексы или системы, которые постоянно комбинируются, изменяются и развиваются. Регулирует это развитие закон подбора, по которому выживают более приспособленные к своей среде и одновременно более организованные системы. Рассматривая мир как совокупность организационных комплексов, Богданов подчеркивает в нем не только организационные, но и дезорганизационные составляющие: организационные комплексы налицо там, где активность сопротивления комплекса в целом больше суммы активностей сопротивлений его элементов, дезорганизационные – там, где активность сопротивления комплекса меньше суммы своих частей, нейтральные – там, где этот показатель равен сумме частей. Поэтому организационная система не является универсальной, она действенна по отношению к каким-нибудь определенным активностям, сопротивлениям. Богдановская тектология (организационная наука) рисует панорамную картину действительности: от развивающейся природы до развивающегося человечества, двигающегося к своему светлому будущему – социализму. Причем системность тектологии позволяет строго планировать прогрессивный процесс развития человечества, решая организационные задачи способами, аналогичными математическим. Поэтому Богданов уверен, что расцвет тектологии «будет выражать сознательное господство людей как над природой внешней, так и над природой социальной. Ибо всякая задача практики и теории сводится к тектологическому вопросу: о способе наиболее целесообразно организовать некоторую совокупность элементов – реальных и идеальных».
Организационная наука Богданова оказалась доктриной, типичной для XX в. с его увлеченностью системными построениями, позитивистским прожектерством, верой во всесилие науки. В ней видны гениальные озарения (предвосхищение системного анализа и кибернетической методологии), очевидные несообразности (вера во всесилие математических обоснований), явные противоречия (особенно по философским проблемам), но также и продуктивность самих попыток нащупать и выразить новые, более глубокие, чем ранее, подходы к осмыслению мира во имя его преобразования. Наследие Богданова, безусловно, нуждается в более глубоком осмыслении, учитывая тот факт, что в течение многих десятилетий его имя было под запретом, тогда как многие его выводы оказались пророческими[376].
В.И. Ленин (Ульянов) (1870–1924) родился в интеллигентной дворянской семье в г. Симбирске. По окончании гимназии поступил в Казанский университет на юридический факультет (1887), откуда был исключен в том же году за участие в студенческих беспорядках. С этого времени Ульянов (Ленин) активно участвует в революционном движении, неоднократно подвергается арестам и ссылкам. В 1891 г. он экстерном сдает экзамены по программе юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В эти же годы Ульянов (Ленин) становится профессиональным революционером, активным участником русского и европейского социал-демократического движения. Создатель и бессменный руководитель большевистской партии, он многие годы вынужден был проживать за границей и вернулся в Россию лишь после февральской революции 1917 года. Руководитель Октябрьской революции, организатор Советского государства, Ленин умер, так и не успев реализовать разработанные им новые подходы к построению социалистического общества в отдельно взятой стране.
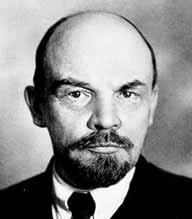
В.И. Ленин
Значение Ленина может быть определено только в контексте грандиозных исторических свершений, осуществленных под его руководством и наложивших неизгладимую печать на весь облик XX в. Что касается философских взглядов Ленина, то они являются органической частью его единой концепции, которая была названа «ленинизмом». Эта часть касалась общемировоззренческих проблем, которые часто оказывались подчиненными политическим и организационным партийным надобностям. Как политик и вождь Ленин видел в философии теоретическое обоснование политической и практической деятельности. Поэтому, постоянно подчеркивая ортодоксальность отношения к наследию отцов-основателей, он смело обосновывал идеи и концепции, идущие вразрез с их выводами, ссылаясь при этом на новые исторические обстоятельства и практические реалии (теория империализма, возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране и т. д.). Эти новые реалии, по мнению Ленина, во многом были связаны с историческими особенностями России и ее мировой социалистической миссией. Таким образом, Ленин разрабатывает еще один вариант русского марксизма, впитывавший и творчески переработавший интенции русской революционной общественной мысли.
Чистая теория менее всего привлекала Ленина, а философские проблемы чаще всего обсуждались им в связи с политическими и организационно-практическими потребностями. Фактически единственное специальное философское исследование русского революционера «Материализм и эмпириокритицизм» было связано прежде всего с особенностями политической и организационной борьбы в большевистской фракции, с внутрипартийной поляризацией (каприйская школа Богданова, ленинская школа в Лонжюмо и т. д.). На это при издании книги обращал внимание сам Ленин, сообщая в письме своей сестре, что с выходом «Материализма и эмпириокритицизма» связаны «не только литературные, но и серьезные политические обязательства». Сестра А. Ульянова-Елизарова писала по этому поводу в его биографии, что глухое время второй иммиграции он посвятил изучению философии, которой до тех пор у него не было времени заняться.
В.И. Ленин не мог пройти мимо того очевидного факта, что марксистская философия оказалась в противоречии с новейшими открытиями в естествознании (прежде всего в физике). Так, если Энгельс последовательно придерживался механистической интерпретации материи, фактически сводя ее к телесности, веществу, то в конце XIX – начале XX в. наука открыла энергийное состояние материи («поле»). Это приводило к различным парадоксальным выводам типа «материя исчезла».
Подчеркивая приоритет метода Энгельса, В.И. Ленин гносеологизирует проблему для того, чтобы в полемике с Плехановым и Богдановым доказать, что наши представления о материи в процессе научного освоения действительности постоянно изменяются, но исходный тезис остается константой: материя обладает свойством быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания.
Тем самым материя возвращала себе утраченный в свете новейших открытий атрибут абсолютности, что в свою очередь создавало предпосылки для догматизации материализма, особенно если учесть, что в дальнейшем эта догматизация опиралась на праксео-логические потребности. Гносеологизация философской проблематики определяла и ленинский подход к диалектике, которую он наряду с материализмом считал определяющим элементом философии марксизма (недаром Ленин постоянно говорил о диалектическом материализме). В отличие от Плеханова, который, разрабатывая диалектику в аспекте «скачкообразного» развития», стремится осмыслить ее «как сумму примеров» («то же у Энгельса», замечает Ленин), сам Ленин видит в ней прежде всего «закон познания (и закон объективного мира)». Поэтому вопреки Плеханову он настойчиво доказывает, что диалектика и есть теория познания марксизма. Однако Гегеля «нельзя принимать в данном виде». Его учение необходимо очистить от идеализма и мистицизма, что является «большой и трудной работой», перспективной задачей марксистских исследователей. Это означает необходимость «читать Гегеля материалистически», последовательно преодолевая, вытравляя в его учении «большей частью боженьку, абсолют, чистую идею etc». В практическом плане подобные подходы реализуются в достаточно точной схеме, по которой диалектика есть «правильное отражение вечного развития мира», фиксирующее, «как могут и как бывают (становятся) тождественными противоположности». Отдельные стороны движения отражаются в форме понятий, которые столь же изменчивы, подвижны, переливчаты, как мир; следовательно, и они опосредуют принцип тождества противоположностей. Истинность этих понятий (а следовательно, и знания в целом) доказывается практикой, которая «выше теоретического познания, ибо она имеет достоинство не только всеобщности, но и непосредственной действительности». Приоритет практики в философском освоении действительности, во-первых, открывает перспективы для прогнозирования результатов будущего развития (начальная стадия развития совпадает с конечной с учетом разнообразия промежуточных этапов и т. д.); во-вторых, создает базу для жесткого классового анализа, в свете которого любая теория должна выражать классовые интересы, а правильная – только интересы пролетариата; в-третьих, открывает широкие лазейки для субъективистских интерпретаций, которые санкционируются нормативной основой догматизированной теории; в-четвертых, предопределяет скептическое отношение к чистой теории, свободному философскому поиску, борьбе мнений. Эти и другие особенности ленинской концептуальной позиции создавали предпосылки для негативных интерпретаций, которые зачастую оказывались реализованными в «ленинизме», в творчестве и деятельности последователей Ленина. Догматизация теории, абсолютизация собственных выводов, подчинение научного анализа сиюминутным потребностям, безапелляционность выводов, некритичность само-осмысления и полученных результатов – эти и другие тенденции, реализованные в практике последователей Ленина, сыграли непоследнюю роль в дискредитации социалистических перспектив развития на современном этапе.
В свою очередь наследие В.И. Ленина требует нового концептуального осмысления, так как и сегодня при его трактовке чаще всего преобладают политические потребности, далекие от потребностей научного анализа, который должен создать условия для критического осмысления такого противоречивого, но исторически значимого явления, как марксизм-ленинизм[377].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК