Философские идеи русского народничества
Революционная ситуация 1859–1861 гг. и реформа 1861 г. оказались рубежными для развития России в XIX в. Они во многом предопределили особенности исторической эволюции второй половины XIX в., сложную динамику ее форм и контрреформ. На смену теоретическому народничеству 40-50-х гг. приходит практическое народничество 70-80-х гг. На первый план в радикальном движении выходят организационные, практические потребности, связанные с активными формами политической борьбы, практическим воздействием на русское общество (прежде всего на существующий политический режим), поиском реальных путей изменения существующего строя (кружки, хождение в народ, создание организации «Земля и воля» и т. д.). Недаром этот этап в революционном движении связан с народничеством. Тем самым как бы подчеркивается первичность политической, организационной деятельности по сравнению с теоретическими и философскими поисками. Наблюдается медленное, но неуклонное снижение по сравнению с 40-50-ми гг. теоретического уровня лучших представителей народнической идеологии. В какой-то степени это было предопределено высокой планкой теоретических, философских, в целом концептуальных поисков Герцена и Чернышевского. Активная общественная позиция требовала не теоретических изысканий, а прежде всего практических политических действий. Теория же интересовала народников лишь постольку, поскольку она санкционировала и обобщала революционную деятельность. Принципиальность этого положения изменялась оттого, что определенные представители активного народничества, отражая новую историческую ситуацию, могли по отдельным проблемам приходить к интересным теоретическим выводам.
Петр Лаврович Лавров (1823–1900), выходец из семьи псковского помещика, сделал блестящую научную карьеру, одновременно активно участвуя в общественных событиях середины XIX в., способствовавших радикализации его мировоззрения. Даже в ссылке и за границей (куда он бежал из России в 1870 г.) Лавров много и плодотворно занимается научной и публицистической деятельностью, оставаясь при этом активным революционером (членом Интернационала, участником Парижской коммуны). Его работа «Очерки практической философии», 1860) послужила поводом для написания Чернышевским «Антропологического принципа в философии», а книга «Исторические письма» (1868–1869) стала настольной для русских радикальных деятелей. Журнал «Вперед» и одноименная газета, которую Лавров издавал за границей, во многом были посвящены актуальным общественным и философским проблемам.
В отличие от других идеологов русского народничества Лавров чувствовал вкус к теории и на протяжении всей жизни занимался наукой. В центре его философских интересов – человек, прежде всего человек как личность. Поэтому в концепции Лаврова органически сочетаются философия и социология. Монизм его позиции требует видеть в человеке ключ к пониманию природы (философия) и основание для осмысления общества (социология). Философия, по мнению Лаврова, должна внести единство во все сущее, как сущее для человека. Сущее для человека, по Лаврову, определяется человеком, его природой. Монистический человек в таком контексте предстает «как существо разумное, нравственное и социальное». И это функциональное триединство человеческой природы характеризует «реальное единство человека», превращающегося в «догматический принцип, который служит центром философской системы». Человек в единстве всего сущего оказывается отправной точкой исхода философского построения, коррелирующей основой философской системы, разумным идеалом философского осмысления действительности. Поскольку целостный человеческий организм обладает двумя функциями (познавательной и практической), философские построения Лаврова базируются прежде всего на гносеологических и практических основаниях. Первые в акте мышления исходят из объекта, т. е. мира, как он есть, вторые определяет деятельную природу человека, реализующую приятное, полезное и должное. Получается, что мир существует именно потому, что фиксируется мышлением. И хотя Лавров подчеркивает материальность мира, объективную необходимость движения и изменения, у него явно виден крен в сторону субъективизма, субъективного идеализма кантианского толка. Это особенно заметно тогда, когда русский мыслитель анализирует процесс познания сквозь призму категорий вещей в себе и вещей для нас, фактически склоняясь к стыдливому агностицизму, утверждающему, что невозможно знать… сущность вещей, мир – совокупность познанных явлений с непознаваемою подкладкою. Исследуя теоретический мир сквозь призму гносеологической деятельности человека, Лавров интенсивно вводит в философскую аргументацию психологические и этические мотивы. Это позволяет ему достаточно полно описать не только ощущения, но и чувства (эмоции), а также органически включить в философский анализ нравственное, так как любое человеческое знание в итоге определяется добром и злом, имеет не только научно-теоретическое и прикладное, но и нравственное значение. Иными словами, человек при помощи своего критического мышления постоянно должен определять, что такое хорошо и что такое плохо – плохо, разумеется, все то, что вредит человеку и извращает его природу. Нравственное чувство тем самым реализует критические возможности мышления. Научная критика в таком контексте становится определяющей для человеческой деятельности, как теоретической, так и практической. Все познанное человеком, все его знания существуют только в связи с его нравственной и критической позицией, объективное исследование всегда дополняется субъективным методом. Последний особенно ярко проявляется в учении Лаврова о социальной природе человека – обществе и исследуется социологией. Человек как социальный субъект существует и развивается на основе выработки общественного идеала, который является движущим нервом общественного бытия. Сформировавшийся общественный идеал становится единым критерием исторического действия и развития. Человек, действующий как социальный субъект, т. е. личность, руководствуется идеалом, и поэтому его деятельность всегда субъективна. Именно личность, по мнению Лаврова, есть источник истории, так как она руководствуется научным знанием необходимого и нравственного убеждения о справедливейшем. В свою очередь история становится «столкновением личных деятельностей», и этот бесконечно многообразный процесс производит объективный процесс истории. Поэтому объективность истории состоит в субъективной мере ее оценки личностями, участвующими в ней. В центре социологических исследований русского мыслителя – критически мыслящая личность. Отличительной особенностью человека как личности является то, что, возникнув в мире механического детерминизма – природы, он сразу оказывается свободным, так как его деятельность разумна и осуществляется в соответствии с выработанными идеалами. Но тогда возникает вопрос о том, что и как определяет деятельность человека – единственного орудия и единственного предмета истории. Ответ на этот вопрос требует знания природы человека как существа физического и нравственного одновременно. Именно эти стороны человеческого существования определяют потребности и влечения, в свою очередь становящиеся стимулами человеческого действия. Русский мыслитель выделяет три группы потребностей и влечений: 1) бессознательно вытекающие из физического и психического устройства человека; 2) бессознательно получаемые от общественной среды (культурные формы, обычаи, предания и др.); 3) сознательно приобретаемые, кажущиеся объективными, независимыми. Именно третья группа потребностей является главной, так как в ней реализуются «сознанные расчеты интересов эгоистических личностей». Другими словами, личность творит историю, исходя из осмысленных эгоистических интересов, в конечном счете совпадающих с эгоистическими интересами других людей. И разумность этого осмысления связана прежде всего с природой человека, с потребностью лучшего, с влечением к расширению знаний, с выработкой высшей цели, с осознанием необходимости изменения мира сообразно своему нравственному идеалу. В результате возникает необходимость перестроить мыслимый мир по требованию истины, реальный мир – по требованиям справедливости. И первое, и второе достигается за счет сознательной деятельности человека, определяющей все остальные его деяния в истории. Поэтому в каждую историческую эпоху развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношениях, а также воплощение истины и справедливости в определенных общественных формах составляет формулу прогресса, в которой концентрированно воплощается содержание исторического процесса. Эта формула прогресса носит конкретно исторический характер, ибо фиксирует борьбу за «торжество нашего идеала в противовес уже существующему». Эта борьба и приводит к прогрессивному приближению «к реальному или идеальному лучшему», а критерием определения прогрессивного и регрессивного становится «высшее благо человечества», т. е. вечный абстрактный идеал, санкционирующий прогрессивное историческое развитие. С точки зрения Лаврова, именно таким идеалом и является социалистический идеал. Критически мыслящие личности, в деятельности которых реализуется субъективный взгляд на события с точки зрения нашего нравственного идеала, являются творцами прогресса. С этих достаточно четких и оригинальных для своего времени теоретических позиций Лавров плодотворно анализирует отношение к прогрессу различных классов, ответственность и обязанности критически мыслящих личностей перед народом, роль и место интеллигенции в этом процессе, характер и особенности деятельности политических партий, государственного элемента, науки и т. д. Много, ярко и последовательно русский мыслитель описывает современный ему общественный строй (общественные и личные интересы, эксплуатация, конкурентная борьба, положение народа, место и роль революционной борьбы и др.).
Формирование и эволюция философских взглядов Лаврова оказались сложным и противоречивым процессом. Он испытал и критически переосмыслил различные философские влияния (Кант, Гегель, Чернышевский, О. Конт, социалисты и др.), постоянно стремясь разработать монистическую философию. Однако в результате его философская система оказалась эклектичной, что отмечал в свое время Чернышевский. И все же Лавров стал создателем развернутой философско-антропологической концепции, в которой были реализованы неординарные философские решения. Энциклопедизм его знаний позволил ему создавать оригинальные труды в сфере конкретных наук (антропология, естествознание и т. д.). Его философско-социологическая теория (особенно «субъективный метод» и «критически мыслящая личность») оказала огромное практическое влияние на русское общество, сделав Лаврова идеологом одного из направлений русского народничества. Его стремление «субъективировать» философские аргументации и опереться на «субъективизм» личности расчищало почву для гносеологизации философских построений, которым принадлежало будущее как в России, так и в Европе.
Михаил Александрович Бакунин (1814–1876), выходец из старинного дворянского рода, после традиционной армейской службы оказался в центре русских философских исканий 30-40-х гг. (кружок Станкевича), одновременно активно участвуя в процессе освоения русскими интеллектуалами философии Фихте и Гегеля. На его мировоззрение большое влияние оказали европейская жизнь (Берлин, Париж) и взаимодействие с немецкими младогегельянцами, особенно с А. Руге, К. Марксом и Ф. Энгельсом (сильным было и влияние Прудона). Статья «Реакция в Германии», сделавшая его известным, была опубликована в «Немецко-французском ежегоднике» и заканчивалась знаменитым афоризмом: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть».

М.А. Бакунин
Став известным европейским революционером, Бакунин активно участвует в европейской революции 1848 г., приговаривается в Германии к смертной казни, но выдается русским властям, и отбывает наказание в Петропавловской (1851–1854) и Шлиссельбургской (1854–1857) крепостях, затем ссылается в Сибирь, откуда бежит через Японию и Америку в Европу (1861). Бакунин становится активным участником европейских революционных организаций вплоть до I Интернационала, где последовательно ведет борьбу против марксистов. В русском народничестве 70-х гг. XIX в. Бакунин явился теоретиком и лидером наиболее яркого направления – бакунизма. Теоретические поиски и находки Бакунина связаны с бурными общественными процессами Европы и России второй половины. Фундаментом его мировоззрения стала оригинальная интерпретация антропологического материализма.
В последние годы жизни Бакунин много и плодотворно занимается теорией, разрабатывая философию анархизма («Государственность и анархия», «Федерализм, социализм, антитеологизм», «Кнуто-германская империя и социальная революция»).
Бакунин формировал и развивал собственную философскую позицию, критически переосмысливая идеи различных мыслителей (от Гегеля до Бюхнера). В его философских построениях видны следы позитивизма и вульгарного материализма. В своей длительной и последовательной борьбе с Марксом русский мыслитель использовал и некоторые идеи исторического материализма. Следует отметить также русские истоки бакунизма (Чернышевский и др.). Бакунин разработал оригинальное диалектико-материалистическое учение, в котором, однако, материализм оказывался непоследовательным, а диалектика ограниченной. Разносторонне критикуя идеализм и религию, Бакунин однозначно связывает себя со школой материализма, хотя отождествляет его с позитивизмом и даже с вульгарным материализмом. По его мнению, «мы называем материальным все, что есть, все, что происходит в действительном мире, как в человеке, так и вне его». Идеальное лее характеризует продукты деятельности человеческого мозга, который, естественно, тоже есть вполне материальное образование. Поэтому, называя действительность материей или материальным миром, мы органически включаем в него и мир идеальный. При этом материя (вопреки критическим оценкам идеалистов и даже упрощениям метафизического материализма) не является чем-то тупым, неодушевленным, неподвижным, не способным произвести ни малейшей вещи – материя имманентно активная, она стремительная, вечно подвижная и плодотворная, поскольку содержит в себе все многообразие форм мира. Постоянно находясь в процессе движения, материя подчиняется действию универсальных законов (механических, физических, химических, физиологических и др.) и в силу собственного динамизма постоянно развивается в безграничном движении без начала и конца, пока не достигает в своем развитии уровня человека, а следовательно, и общества как реальной социальной среды его обитания. Человек, будучи совершенным проявлением животного начала, одновременно обладает и мышлением, на основе которого формируется мир моральных, научных, культурных ценностей. Отталкиваясь от аргументации антропологического материализма, Бакунин не только раскрывает единую материальную природу человека, но и убедительно доказывает, что человек – естественное и общественное существо одновременно. Следует подчеркнуть, что человек «очеловечивается и прогрессивно эмансипируется лишь в недрах общества», причем достигается это «лишь коллективным усилием всех бывших и настоящих членов этого общества, которое, следовательно, есть основа и естественная исходная точка человеческого существования». Тем самым центром философского анализа для Бакунина становится «мир человеческий». Будучи революционером, русский мыслитель пытается разобраться прежде всего в активности человека и условиях его общественного существования. Именно отсюда вырастает его философия анархизма, которая фактически является социологией, т. е. наукой об общих законах общественного развития, объясняющей человеческую историю. Причем общество – великолепно организованный мир, части которого характеризуются взаимосвязью и взаимодействием. Ссылаясь на Маркса, Бакунин утверждает, что общественное развитие определяется экономическими факторами, что все происходящее в обществе (в том числе и в сфере духа – моральное, интеллектуальное, религиозное, юридическое, художественное и т. д.) в конечном счете есть отражение или неизбежное последствие развития экономических явлений. Русский мыслитель исследует развитие общества с позиций экономического детерминизма. Труд и трудовая деятельность означают конец «царства животности» и начало собственно человеческой истории. Труд и различие экономических интересов разделяют общество на классы, закономерным следствием чего становится классовая борьба, целью которой является стремление к обществу, где будут господствовать рабочие классы (пролетариат и трудовое крестьянство) в отличие от уже господствующих привилегированных землевладельцев и капиталистов. Однако последовательно применить методологию экономического детерминизма Бакунин не сумел. Бакунин с известной долей обоснованности критиковал марксизм за фатализм, за преклонение перед объективным ходом исторического процесса. Он не мог согласиться с марксистским учением о личности (точнее, с решением проблемы свободы личности) и справедливо настаивал на обратном влиянии идеологических и психологических факторов на экономические процессы. Дух народов, народные инстинкты, расовые особенности, по его мнению, не детерминируются экономически, но оказывают огромное воздействие на ход истории. Выдающуюся роль в истории играет личностный фактор. Объективный ход истории, по Бакунину, в своем развитии проходит три фазы: 1) животность в первобытном обществе, где слабое развитие разума не позволяет постичь сущность человеческой личности; 2) критическое мышление, при помощи которого человек познает законы своего бытия «сообразно с преследуемой им целью освобождения»; 3) бунт, в котором реализуется абсолютная свобода личности от авторитарности государства и церкви. Именно бунт позволяет преодолеть животность и утвердить человечность: он должен разрушить государство, построенное на насилии. Таким же злом, как и государство, является религия, которая, будучи «коллективным историческим безумием», санкционирует государственное подавление личности и общества. Отсюда и последовательно проводимое Бакуниным требование уничтожения государства и религии. Хотя русский мыслитель много справедливого написал о пороках государства (централизм, бюрократизм и т. д.) и формальности буржуазных свобод, трудно согласиться с полным отрицанием Бакуниным государственности как таковой, хотя бы потому, что исторический опыт не открыл иной формы общественной организации. Предлагаемый Бакуниным федералистический способ существования общества (коммуны снизу доверху) оказывается явно утопическим (хотя и привлекательным в чисто теоретическом плане). Он, как и философия бунта, вряд ли выдерживает критический анализ, если подойти к нему с позиций критической диалектики, отстаиваемой русским мыслителем. Ставка Бакунина на активность человека, на бунтующую личность, перестраивающую общество, антигосударственный и антибуржуазный пафос этого мыслителя стимулировали русское радикальное движение. Многие его теоретические выводы и по сей день привлекают внимание различных политических партий. Вне идей Бакунина (особенно социальных) трудно представить себе русский тип философствования, русский бунт и бунтующего русского человека[364].
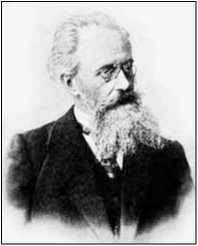
Н.К. Михайловский
Николай Константинович Михайловский (1842–1904). Крупнейший русский публицист, родился в г. Мещовск Калужской губернии. Всю свою жизнь Михайловский посвятил литературной критике, которая сделала его ведущим общественным деятелем (журналы «Рассвет», «Книжный вестник», «Отечественные записки» и «Русское богатство»).
Будучи одним из лидеров либерального народничества, Михайловский последовательно боролся с революционными теориями (в том числе и с марксизмом). Он был выдающимся публицистом в русском значении этого слова, т. е. человеком, в значительной степени определявшим теоретические (в том числе философские) и практические поиски радикальных русских деятелей. Он был властителем дум нескольких поколений русских радикалов, человеком, к которому со всех бескрайних русских просторов обращались за советом, как жить, что делать и т. д.
Наиболее известной и продуктивной стороной теоретической деятельности Михайловского является разработка опирающейся на субъективный метод социологической концепции, а также некоторых частных теорий (разделения труда, борьбы за индивидуальность и коллективного подражания).
Михайловский написал большое количество работ, посвященных философским проблемам, однако они скорее характеризуют его как популяризатора, чем как творца философских идей. Следует отметить определяющее влияние на Михайловского философии О. Конта, а также некоторых позитивистов (Г. Спенсер и др.). В основе философских воззрений публициста лежит позитивистская по своей сути методология. Михайловский постоянно опирается на контовскую классификацию науки, на его интерпретацию объективного и субъективного методов, во многом исходит из органической теории общественного развития.
Не отрицая материальности мира, закономерностей его существования и развития (причинность и т. д.), Михайловский снимал как бесплодный сам вопрос о сущности мира («материя» или «идея, дух»?), так как любое знание имеет исключительно опытный характер, а следовательно, невозможно проникнуть в сокровенную сущность вещей. Достоинство позитивистского осмысления действительности он видит именно в том, что такой подход исключает метафизические обоснования, требует четкого анализа условий и средств человеческого познания и установления границ познавательной способности человека. Познание человека естественно ограничено природой (особенностями биологической организации человека) и историческим ходом вещей. В силу первой причины процесс познания субъективизируется, а следовательно, то, что знает конкретный человек, по Михайловскому, «не есть что-нибудь вполне соответствующее природе вещей и обязательное для всех существ». Отсюда вытекает относительность того, что человек называет истиной. В силу второй причины все, что знает человек, опосредуется особенностями общества, общественным союзом, к которому он принадлежит, т. е. личными и групповыми интересами. Субъективизируя процесс познания, Михайловский в качестве критерия оценки его результатов рассматривает удовлетворение требованиям человеческой природы. Понимая, что подобный подход аннигилирует разницу между добром и злом, истиной и ложью и т. д., он пытается доказать, что необходимо исходить из потребностей личности, являющейся совокупностью всех черт, свойственных индивидууму, т. е. личности развитой, целостной, гармоничной. Это скорее умножает вопросы, чем дает ответы на поставленную русским мыслителем проблему. Идя от человека, от его естественной и социальной природы, каждая из которых накладывает свой отпечаток на гносеологическую деятельность, Михайловский стремится вычленить особенности познания. Одновременно следует отметить и эклектичность гносеологической позиции русского публициста. Михайловский справедливо подчеркивал роль и значение метода в философском постижении мира. Отдавая дань позитивистским подходам к осмыслению метода, он утверждал, что вопрос о науке есть вопрос о методе. Следовательно, научная интерпретация действительности всегда является проблемой методологической. Метод как совокупность приемов, с помощью которых изучается мир, во многом определяет возможности познания и знания. Выбор и применение того или другого метода определяются предметом и условиями познания. В этом контексте Михайловский характеризует разные методы (опытный, индуктивный, дедуктивный и др.), особенно подчеркивая роль объективного и субъективного методов. Предпочтение русский мыслитель (как и Лавров) отдавал субъективному методу, который является «таким способом удовлетворения познавательной потребности, когда наблюдатель ставит себя мысленно в положение наблюдаемого. Этим самым определяется и сфера действия субъективного метода, размер законно подлежащего ему района исследования». Субъективный метод, не отрицающий, впрочем, объективного исследования, определяет изучение общества (история, социология), так как, по мнению Михайловского, история имеет целесообразный характер и подвержена моральной оценке. Верно подчеркивая роль субъективного фактора в истории, Михайловский (как и Лавров) в конечном счете не сумел исследовать сложную диалектику объективного и субъективного: идеал и действительность, должное и желаемое зачастую оказывались у него разорванными, противопоставленными. Но на основе субъективного метода Михайловский создает интересное социологическое учение. Его социальная философия антропологична, так как исходит из человеческой личности, ее судьбы, ее интересов. Антропологический принцип в философии, позволивший Михайловскому обосновать субъективный метод как проекцию человека на мир, в истории преформируется в анализ человеческой личности. Таким образом, человек как личность оказывается носителем социальных качеств; условия его социализации определяют законы исторического развития. А именно наука (в данном случае социология) должна вычленить и экстраполировать законы и закономерности исторического бытия человека. Триединым фундаментом, на котором формируется социология, являются разработанные Михайловским теории разделения труда, борьбы за индивидуальность, коллективного подражания. В контексте этих теорий реализуется учение русского мыслителя о прогрессе, суммирующее отличительные особенности исторического развития человечества.
Человек в истории трактуется Михайловским прежде всего как личность, участвующая в общественном разделении труда. При этом он исходит из идеи биолога Н.Д. Ножина, доказывавшего, что чем сильнее развито разделение труда, тем менее гармонична личность; чем сильнее межличностные различия в условиях разделения труда, тем меньше солидарность между общественными группами. Отталкиваясь от положений органической теории общества, Михайловский дополняет концепцию Ножина учением о кооперации и ее типах. Именно с позиций простой и сложной кооперации характеризует он общественное развитие. Простая кооперация, по мнению философа, построена на одинаковых функциях, неизбежно ведет к социальной односторонности, при которой господствует солидарность. Сложная кооперация (закономерная в процессе исторического разделения труда) ведет к дифференциации социальных групп, борющихся друг с другом (касты, сословия, классы и т. д.). В современном обществе сложная кооперация принимает форму борьбы труда и капитала. Преодолевая узкие рамки органической теории общества, которая санкционирует существующий буржуазный порядок, русский мыслитель стремится опереться на теорию индивидуальности, возникающую как результат критической переработки дарвинизма. Последний, по мнению, Михайловского, оказывается не только великим переворотом в биологии: «дарвинизм обязателен при известных условиях и для социологии». Эти известные условия – особенности общественного взаимодействия и борьбы, где не господствует внутривидовая борьба, как в природе, а действует человек, сознательно формулирующий свои цели и их достигающий и, следовательно, способный преодолеть конкуренцию и борьбу солидарностью во имя общего блага. Общественное развитие реализует борьбу личности за индивидуальность – точнее, борьбу личности и общества. С точки зрения этой борьбы история проходит три этапа: 1) объективно-антропоцентрический, когда отсутствует какая-либо социальная дифференциация и господствует простая кооперация (доисторический период); 2) эксцентрический, возникающий на основе разделения труда, превращающего человека в придаток общества, и ведущий к его дальнейшей деградации, в ходе которой человек «становится некоторой отвлеченной категорией метафизического мышления» (современный этап человеческого развития); 3) субъективно-антропоцентрический, который должен вернуть человека к господству простого сотрудничества, период, когда человек сознательно станет мерилом вещей. Человеческое мышление освободится от метафизики и дуализма, восторжествует монизм, но это будет новый позитивный монизм, снимающий противоречия и тупики первого и второго этапов исторического развития. Борясь за индивидуальность, человек обеспечивает свое будущее – будущее свободного человечества.
Михайловский хотел исследовать этот всемирно-исторический процесс борьбы за индивидуальность в контексте функционирования различных сторон общественного организма (семья, род, община, классы, государство), но реализовать этот грандиозный план не успел.
Теория разделения труда и борьбы за индивидуальность органически дополняется учением о коллективном подражании, которое решает вопрос о роли народных масс и личности в истории («Вольница и подвижники», «О героях и толпе»).
Рассматривая народ как совокупность личностей, Михайловский полагает, что его следует изучать, как и личность, исходя из физиологических, психологических, социальных потребностей человеческого организма, учитывая борьбу за индивидуальность и разделение труда. И все-таки главный ракурс рассмотрения этой проблемы у Михайловского социально-психологический. Народ, по его мнению, представлен двумя типами жизнедеятельности – «вольница» и «подвижники». Первые – идущие напролом в своем протесте против существующего строя, не имеющие четкой программы, вместо которой зачастую используются старые идеи (бунты, религиозные войны и другие). Второй тип – пассивно протестующие, чаще всего путем ухода из не устраивающего их общества (сектанты, раскольники и другие). По мнению русского мыслителя, оба типа народной самодеятельности нуждаются в руководителях, вождях, героях, которые способны увлечь за собой массу на хорошее или дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или бессмысленное дело. При этом воздействие героя на толпу трактуется как подражание, как массовый гипноз. Массы в подобной ситуации оказываются как бы охваченными психической эпидемией, когда любой внешний раздражитель (не только герой, но и первый встречный авантюрист, чудак, выскочка и т. д.) детонирует процесс общественного взрыва, особенно во имя высоких общественных идеалов (крестовые походы, «охота на ведьм», проявления национализма и т. д.). Подобная широко распространенная в истории ситуация, по мнению Михайловского, является свидетельством патологического состояния общества. И эта общественная патология будет сниматься в прогрессивном развитии, в котором борьба за индивидуальность преодолевает разделение труда и закономерно ведет к обществу, реализующему гармоническую личность, свободную от односторонности. В будущем однородном обществе гармонических личностей не останется места героям и толпе. Поэтому формула прогресса Михайловского обосновывает неизбежное поступательное движение истории к гармоническому социалистическому строю будущего, обществу, в котором исчезнут сословное разделение людей, эксплуатация «трудящегося люда» и восторжествует гармоническое единство индивидуального и общественного. Достичь этого светлого будущего Россия сможет, по мнению Михайловского, лишь минуя ужасы капитализма, идя своим собственным историческим путем.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК