Философско-художественная антропология Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского
Русская философия имманентно антропологична – она постоянно тяготеет к экзистенциальным сюжетам, к осмыслению мира как определенного жизнеустройства. Художественное воспроизведение действительности имплицитно антропологично, так как создает особый мир человеческого осмысления и понимания, не только совпадающий с объективной реальностью, но и одновременно творящий ее. Именно в этой функции – отражать и творить совпадают философия и художественное творчество, хотя делают они это в качественно разных формах. Поэтому очень часто философия и художественное творчество диффузны, взаимопроникаемы и взаимодополнительны по отношению друг к другу. Особенно это относится к русской литературе, которая на протяжении долгого времени являлась магистральным путем эволюции общественного самосознания. В ней чаще всего осмысливались и обсуждались определяющие жизнь общественные проблемы (в том числе и философские).
Каждый великий писатель наделен мировоззрением, без качественного анализа которого невозможно понимание его творчества. Кроме того, он в своем стремлении создать собственную художественную реальность отчасти является и профессиональным философом: художественная антропология одновременно оказывается и философской антропологией. Разумеется, это относится прежде всего к великим писателям, творящим мир по законам образного и философского освоения действительности – Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому.
Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) родился в Москве в многодетной семье штаб-лекаря Марьинской больницы. Совсем молодым (24 года) он пишет свой первый роман «Бедные люди», который делает его известным всей России. Страстное желание активной деятельности, критическое восприятие российской действительности, боль за маленького человека определяют его путь в кружок петрашевцев, разгром которого привел Достоевского на эшафот, а затем на каторгу, к службе рядовым солдатом, вверг в тяжелый идейный кризис, связанный с отказом от своего революционного прошлого и новым культом русского народа: «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа». Свое изменившееся мировоззрение русский писатель воплотил в романах «Записки из подполья» (1864), «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Братья Карамазовы» (1879–1880). Следует обратить внимание и на роман «Бесы» (1871), в котором русский мыслитель филигранно исследует революционное «бесовство» и предлагает свои пути общественного переустройства России.
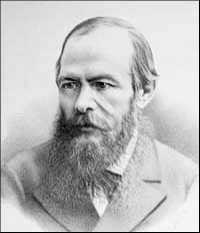
Ф.М. Достоевский
Мировоззренческие поиски Достоевского и полученные им результаты находят свое публицистическое, художественное и философское воплощение в «Дневнике писателя», а также в знаменитой пушкинской речи (1880), которая стала своеобразным завещанием русского мыслителя.
У Достоевского нет специальных философских работ, однако можно твердо говорить о его интересе к философской проблематике. Он, безусловно, испытал влияние философских идей Хомякова, в духе идей Канта создал полифонический роман – многогослойный хор антиномических моделей мира и человека; анализируя сложнейшую диалектику взаимосвязи и взаимоборьбы личности и общества, открыл «подпольного человека» и исследовал его трагический мир, гениально точно изучил и интерпретировал проблему «двойника», «двойничества», без которых невозможно построить панорамную картину мира; критически и многосторонне описал национальное и мировое, роль нравственного и религиозного в историческом развитии. Еще в юности Достоевский писал, что философия есть та же поэзия, только высший градус ее, поскольку в обоих случаях центром осмысления (пускай и в разных формах) становится человек. Однако философия выступает высшим градусом прежде всего потому, что дает цельное понимание человека и человеческого бытия, формирует и обосновывает пути человеческого самопознания и деятельности, неизбежность счастливого нравственного будущего. Поэтому в центре философских построений Достоевского – философия человека и общества, закономерности бытия и перспективы их развития, мучительные размышления над судьбами разомкнутого трагического бытия человека в предельно противоречивом «шевелящемся хаосе» современного мира. В своих философских поисках русский писатель исходит из веры в Бога и постоянно возвращается к Богу как к гаранту человека и мира. Только Богу, писал Достоевский, «одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человечества». Жизнь человека в таком контексте осмысляется через Бога и в Боге, и прежде всего через жизнь бесконечную. «Учение истинной философии, – полагает мыслитель, – уничтожение косности, то есть мысль, то есть центр и синтез вселенной и наружной формы ее, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная».
Человек осмысляет себя через Бога, через жизнь бесконечную и именно в этом нравственная максима его существования. В таком контексте Достоевский, казалось бы, выступает в качестве ортодоксального религиозного мыслителя, ищущего в христианстве санкции для деяний в реальной жизни. Но одновременно он создает образ и другого Бога. Гимн Богу и христианской церкви в «Легенде о Великом инквизиторе», например, оборачивается осуждением деспотизма и преступлений, совершающихся во имя высших целей. В «Братьях Карамазовых» описывается беседа отца Карамазова с сыновьями Иваном и Алексеем, в ходе которой мы получаем три разных ответа на один и тот же вопрос – «Бог есть или Бога нет». Иван подробно обосновывает отрицание существования Бога и души, Алексей вполне ортодоксально богословски доказывает их наличие, а Карамазов-отец как бы заключает: «Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумаешь только, сколько человек отдал веры, сколько всяких сил даром на эту мечту и это сколько уж тысяч лет!» «Есть», «нет», «мечта» – вот ответы на один и тот же вопрос, диалектически противостоящие друг другу и друг с другом сосуществующие. Антиномичное сосуществование противоположных ответов и создает парадоксальную ситуацию, требующую выбора. Достоевский считает своим долгом зафиксировать антиномию «мир и Бог», оставив открытым вопрос об истинности возможных ответов (точнее, имманентно признавая истинным любой ответ). Дело здесь прежде всего в том, что, антиномично сталкивая, сопоставляя Бога и мир, им созданный, необходимо зафиксировать трагический разлад между ними. Мир полон зла и несправедливостей, которые не снимешь указанием на первородной грех. Следовательно, невозможно примирить мир с Богом. Поэтому Иван Карамазов констатирует: «Не Бога я не принимаю, мира я не принимаю. Я только билет Богу почтительнейше возвращаю». Отсюда его богоборческий бунт, который невозможно как оправдывать, так и отрицать. Антиномия Бога и мира сохраняется в парадоксальном единстве и противоречии своих составляющих. Поэтому человек у Достоевского имманентно связан с Богом, но постоянно не приемлет результаты Божественной деятельности, прежде всего реальный мир человеческого существования.
Рассматривая метафизические проблемы человеческого бытия сквозь призму взаимоислючающих подходов (pro et contra), Достоевский рассматривает столкновение рационализма и иррационализма, утилитаризма и свободы, науки и веры сквозь призму человеческого мироощущения и человеческой самодеятельности. Мотивациями последней чаще всего являются вера и наука. Многозначность, полифоничность понимания веры предопределяет неоднозначность данной Достоевским интерпретации науки. По Достоевскому, вопрос прежде всего в том, дает ли наука адекватное знание внешнего мира, достоверны ли истины рассудочного знания. В целом почтительно относясь к науке и ее результатам, русский мыслитель ставит этот вопрос и в другой плоскости: достигает ли наука тех сущностей, которые имеют решающее значение для индивидуального существования человека. Подобный контекст определяющей делает проблему соотношения знания индивидуального, которым руководствуется личность, и целостного знания о мире, лежащем вне человека. Тем самым Достоевский подчеркивает антиномичность всеобщих и индивидуально-личностных законов действительности, которые зачастую не совпадают, так как реализуются в разных системах координат. Писатель художественно исследует несовпадение (а зачастую и противоречие) законов космоса (макромира) и законов человеческого бытия (микромира). По оценке современных исследователей, основной философский смысл художественного творчества Достоевского состоит в защите человеческой личности от игнорирующих ее судьбу макрокосмических законов. Видимо, именно поэтому русского мыслителя интересуют не столько онтологические проблемы бытия мира в целом, сколько человек в реальности его жизни, которая контрастирует с общеприродными закономерностями: для решения стоящих перед ним задач человек должен знать что-то, что «не от мира сего». Это и есть тайна, которую безуспешно пытается осмыслить человек. Но к этой тайне он постоянно идет через реалии своего общественного бытия. Скрупулезно исследует Достоевский жизнь человека буржуазного общества, убедительно показывая, во что в Европе превратились лозунги свободы, равенства и братства – в свою противоположность. Человек утрачивает индивидуальность, в обществе царит отчуждение людей друг от друга и от самих себя. Растет общественная напряженность, создающая условия для социального взрыва. Возникает проблема построения «рая на земле». Достоевский полагает, что он возможен, но только вне социалистического пути. Последовательно и реалистично критикует русский писатель политический и атеистический социализм за его «ложное начало рассудочности и расчета», «арифметическое» стремление опереться только на «хлеб насущный». Удовлетворение же только материальных потребностей превращает человека в «штифтик», а общество – в «муравейник». «Лекари-социалисты» фактически отказывают человеку в бессмертии, тогда как «идея о бессмертии – это сама жизнь». Вне ее невозможна «не только любовь, но и всякая живая сила»; вне ее все «безнравственно», а следовательно, господствует принцип «все дозволено», «бесовство» во всех его разновидностях.
И все же, полагает Достоевский, из тупика капитализма и социализма есть выход. Это объединение общества на основе духовных, религиозных ценностей, народной православной правды. Русский народ спасается в конце концов всесветлым единением во имя Христово. Вот наш русский социализм. В основе этого явно утопического проекта лежит учение Достоевского о русском народе-богоносце, который есть необыкновенное явление в истории всего человечества. Именно он объединит государство и церковь в единый союз христиан, который расчистит дорогу для будущего всего человечества, которое трактуется как рай на земле. Правда, сам Достоевский вынужден констатировать почти непреодолимые трудности
этого пути: «рай на земле нелегко достается», «рай вещь трудная, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу». А пока человек должен готовить себя к этой прекрасной миссии смирением и самосовершенствованием, ибо, как говорил Достоевский в знаменитой пушкинской речи, «правда в самом тебе», «в своем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен». В этом экзистенциальном порыве Достоевский оказывается созвучным будущим философским поискам не только в России, но и в Европе.
Роль Достоевского в русском и мировом философском процессе трудно переоценить. Художественная форма постановки ключевых мировоззренческих проблем, с одной стороны, и гуманистический, антропологический ракурс их рассмотрения – с другой, предопределили пути рецепции его наследия мыслителями последующих эпох. В русской религиозной философии начала XX в., например, ни один сколь-нибудь крупный мыслитель не остался в стороне от осмысления и интерпретации «Легенды о Великом инквизиторе»: в той или иной форме к ней обращались и Н. Бердяев, и С. Булгаков, и С. Франк, и В. Розанов, и др. На Западе ключевые идеи Достоевского плодотворно повлияли на экзистенциализм, прежде всего на французский, также искавший художественного воплощения определенных философских построений. Стоит отметить, что широкое поле для восприятия и толкования философии Достоевского создавала именно полифоничная, диалогичная структура его романов, исключающая однозначное толкование, поэтому к Достоевскому апеллировали мыслители и литераторы, зачастую отстаивавшие прямо противоположные взгляды. Величие русского мыслителя в том, что буквально любое обращение к антропологической, религиозноэтической, экзистенциальной проблематике в XX в. так или иначе перекликается с его творчеством.
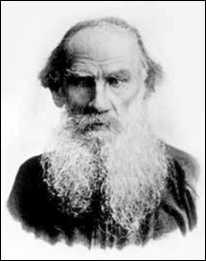
Л.Н. Тостой
Лев Николаевич Толстой (1828–1910) родился в знатной дворянской семье. По собственному признанию, писатель с детства задумывался над вопросом о назначении человека, связывая его решение прежде всего с моральными процессами развития человечества. Сформировавшееся в детстве благоговейное отношение к Богу в зрелом возрасте Толстой в результате сравнения религии и жизни подверг критическому пересмотру.
Этому способствовало тщательное изучение трудов Декарта, Монтескье и особенно Руссо. Толстой пришел к убеждению, что человек, как и мир в целом, должен стремиться к совершенству, а цель жизни человека – всестороннее развитие человечества, осуществляемое не путем изменения условий бытия общества, а за счет всестороннего развития каждой личности. Эти идейные поиски предопределили характер художественного творчества Толстого. В своей общественной деятельности он стремился действовать вне партий, постоянно возвращаясь к излюбленной идее самосовершенствования и распространения добра и любви к ближнему, необходимости новой религии. В 50-60-е гг. Толстой публикует романы «Война и мир», «Анна Каренина», в которых реализуется своеобразно разработанная писателем философско-художественная антропология.
В 70-80-е гг. у Толстого складывается целостная концепция новой религии, путь к которой он описал в «Исповеди». Последующие десятилетия Толстой развивает и пропагандирует свою религиозно-философскую систему («В чем моя вера», «О жизни», «Царство божие внутри нас» и др.). Его художественное творчество этого периода развивается в том же русле (роман «Воскресение»). Толстой становится властителем дум в России. Критическая позиция по отношению к политической власти и духовенству, самостоятельность оценок и собственная религия («толстовство») приводят его к отлучению от русской православной церкви, к открытой конфронтации с властями предержащими. Смерть Толстого превратилась в значимое общественное событие, а его наследие (как художественное, так и религиозно-философское) оказало продуктивное влияние на развитие русского самосознания.
Философская антропология Толстого в художественно-образной форме акцентирует внимание прежде всего на человеке и его бытии. Именно человек – ключ к пониманию мира. Будучи религиозным мыслителем, Толстой рассматривает человека как существо верующее, а следовательно, видит в религии основополагающий принцип человеческого существования. Русский писатель создает собственное религиозно-этическое учение, опирающееся на принципы различных религий (христианство, иудаизм, буддизм и т. д.) и отдельные идеи различных европейских мыслителей (Руссо, Шопенгауэра, Бергсона). В контексте создания новой религии понятно, почему столь сложными были отношения Толстого с официальным русским православием. Принимая основополагающие идеи христианства (равенство людей перед Богом, любовь к ближнему, моральное самосовершенствование и др.), он отвергал церковь, видя в ней земную организацию, прикрывающую именем Бога свои меркантильные интересы. Он мечтал вернуться к изначальному христианству – к всеохватывающему принципу любви и нравственному завету. Толстой настойчиво подчеркивал, что главное в любой религии – нравственная концепция. И поскольку нравственные принципы у всех религий одинаковы, это дает основание для разработки концепции истинной религии: «Истинная религия есть такое согласное с разумом и знанием человека, установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками».
Мерилом мира, ракурсом его осмысления для Толстого является единая природа человека. Религия не противостоит человеческому разуму и знаниям, а верифицирует их; она прежде всего моральное, этическое обоснование жизни, поведения человека. Поэтому Толстого менее всего интересуют онтологические и космологические определения Бога, а более всего – моральное осмысление его внутри каждого человека. Писатель готов отождествить Бога с душой, всеобщим разумом, с высшим законом нравственности, определяющим смысл человеческой жизни («жизнь есть стремление к благу»). Толстой пишет: «смысл моей жизни» не могут определить ни философия, ни социология, ни естественные науки, ибо, хотя все они хорошо отвечают на вопросы «что?» и «почему?», никто из них не может ответить на вопрос «зачем?».
И практика человеческой жизни, история, не может дать ответ на этот вопрос, хотя эмпирически люди пытаются увидеть смысл жизни в неверии, в эпикурействе, в силе и энергии, в слабости, в примирении с существующим миропорядком. Ставку Толстой делает на внеразумную, подсознательную силу жизни, которая концентрируется в народе и реализуется в его вере. Смысл жизни определяет народ, который видит его в стремлении к «тому совершенству, которое указал нам Христос» (Толстой). Механизм достижения этого совершенства – выработка в себе «любовного общения со всеми людьми», поэтому необходимо достичь «царства божия внутри нас и вне нас», а достигается это «непротивлением злу насилием». Отсюда последовательная критика Толстым любых форм насилия (государственных, церковных, революционных и др.) и разработка практических рекомендаций по неучастию в нем. Панорамная критика современной действительности, ярко представленная в художественных произведениях Толстого, отражала эту принципиальную установку русского мыслителя. Как справедливо отметил философ
В.Ф. Асмус, толстовская религия была скорее социальной критикой, чем догмой богословия. Аналогичным образом строится толстовская философия истории, социальная философия, в которой мыслитель пытался сформулировать смысл и законы человеческого бытия и развития. Будучи твердо уверенным в религиозном смысле и целях истории, Толстой, критически изучая исторический путь человечества, стремился вычленить и осмыслить закономерности и законы исторического бытия. В XIX в. это означало прежде всего обращение к столь популярным тогда теориям прогресса (в том числе и предлагаемым русскими современниками Толстого). Достаточно рано (статья «Прогресс и определение образования») писатель стал сомневаться в прогрессе. Он писал, что нельзя утверждать, будто прогресс есть закон человечества, прежде всего потому, что его динамика и результаты различны для разных народов и исторических эпох: «Прогресс одной стороны всегда выкупается регрессом другой стороны человеческой жизни». Пока нет четкого понимания общих законов истории (понимание, по мнению Толстого, вообще вряд ли возможно), нет и четкого научного понимания того, что следует называть прогрессом. Разумеется, писатель признает, что прошлое через настоящее подготавливает будущее, но в этом процессе утраты не менее очевидны, чем достижения. Критически оценивая западноевропейскую и русскую жизнь, Толстой убедительно доказывает, что блага цивилизации и культуры (материальные удобства, техника, наука и искусство и др.) чужды и непонятны народу – более того, враждебны ему. Все завоевания прогресса достались привилегированному меньшинству, которое, пользуясь ими, все сильнее и изощреннее эксплуатирует народ. И общие законы истории, и прогресс формулируются и оцениваются только личным сознанием, потому они не имеют объективного содержания: «формулы прогресса» всегда иллюзорны. Убедительно критикует писатель официальную культуру и науку, показывает ее лицемерный характер и враждебность народу. Но в этом вопросе Толстой идет еще дальше, отрицая роль и значение культуры и науки вообще. Подчеркивая определяющую роль труда в развитии общества, Толстой (вопреки экономической науке своего времени) полагает, что плодотворным является цельный, недифференцированный личный труд, направленный на удовлетворение индивидуальных потребностей. Всякое разделение труда, всякая кооперация вредна, поскольку ведет, по его мнению, к деградации личности. Поэтому писатель настаивает на том, что разделение труда (например, на умственный и физический) – причина социального неравенства, приводящего к бедности и богатству, к возможности привилегированных классов жить за счет эксплуатируемого народа. Отсюда резкая критика Толстым капиталистических отношений в России, особенно в деревне. Бедность России, по его мнению, обусловлена не только неправильным распределением поземельной собственности, но и насаждением чуждой национальному менталитету «внешней цивилизации» (железных дорог, роскоши, фабричной промышленности, кредита и т. д.). Именно эту цивилизацию насаждает государство, делящее прибыли от нее с капиталистами. В последовательной критике государства, которое с помощью насилия эксплуатирует народ, Толстой не делает исключения ни для какой формы государственного устройства. Все они, считает писатель, от открыто деспотических до либерально-республиканских, принципиально одинаковы, так как при помощи насилия создают земное рабство. Государственные же деятели, правительства рекрутируются, с тоски зрения Толстого, из самых дерзких, грубых и развращенных людей, преследующих личные цели, но прикрывающихся при этом отстаиванием справедливости.
Отрицая государство, науку, культуру и т. д. в духе анархических представлений об обществе, Толстой выступает от имени народа, русского патриархального крестьянства. Именно в народных массах русский писатель видел творца истории, решающую силу исторического развития. Поэтому он последовательно критиковал распространенную в то время теорию великих личностей как определяющей силы истории. Ни цари, ни императоры, ни их любовницы, ни великие ученые и поэты не делают историю, хотя на ее поверхности остаются именно их имена. Великой личности только кажется, что она управляет историей, на практике же она оказывается лишь второстепенной частью движущегося исторического процесса («Война и мир»). Народ-богоносец – творец истории. Однако действует народ на основе подсознательных побуждений, «роевых» (Толстой) закономерностей массовых изменений, цели которых устанавливаются божественным провидением. Таким образом, ход истории предопределен. Философия истории Толстого носит явно фаталистический характер.
Философско-художественная антропология Толстого противоречива – реалистически продуктивное соседствует в ней с наивно-утопическим. Мировоззренческие искания русского писателя органически вписывались в бурный идеологический процесс того времени, расчищая почву для будущих философских и религиозных поисков[365].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК