Философские идеи С.Н. Булгакова
На картине известного русского художника М.В. Нестерова «Философы» (1917) на фоне прекрасной русской природы изображены два человека: один в белой рясе с посохом, как бы подчеркивающем его сан духовного странника, другой – в темной тройке, в накинутом на плечи пальто, с упрямо вздыбленной шевелюрой и пронзительным взглядом провидца, взирающего на «сей мир в его минуты роковые». П.А. Флоренский и С.Н. Булгаков были наиболее яркими представителями русского серебряного века, доказавшими своим творчеством величие русской религиозной философии. Они были единомышленниками, и каждый по своему разрабатывал концепцию религиозного единства жизни. Фактически они как бы дополняли друг друга: Флоренский пытался построить цельное мировоззрение на фундаменте конкретной метафизики, онтологического символизма, для чего априорные богословские основания подкреплял философскими аргументами и научной логикой; Булгаков, исходя из тех же принципиальных оснований, философию осмыслял богословски, полагая, что философия исходит и возвращается к религии.
Философские выводы Булгакова как бы дополняли философию Флоренского, в совокупности с последними составляя вершину русского религиозного возрождения.
Сергей Николаевич Булгаков (1871 1944) учился в Орловской духовной семинарии, которую покинул для занятий на юридическом факультете Московского университета, где специализировался на политической экономии.
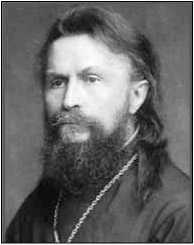
С.Н. Булгаков
Булгаков был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию, занимал кафедру политэкономии в Киевском политехническом институте, затем в Московском университете. Он увлекался идеями марксизма, проделав впоследствии эволюцию «от марксизма к идеализму» – так называлась и его книга, ставшая программной для целого поколения русских мыслителей рубежа веков. Булгаков активно участвовал в русском религиозном возрождении, а также в общественной жизни начала XX в., избирался депутатом Госдумы.
Опыт собственной идейной эволюции философ воплотил в книге «Свет невечерний» (1918), которая, по его словам, является духовной автобиографией, или исповедью. В 1918 г. Булгаков принимает священнический сан, а в 1923 – высылается из СССР. В эмиграции он живет в Праге и Париже, преподает в богословском институте, активно участвует в русском христианском студенческом движении. В эмигрантские годы мыслитель сосредоточивается на богословской проблематике (трилогия «Купина Неопалимая», «Друг жениха», «Лестница Иакова»; трилогия «Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца»). Уже после его смерти увидели свет книги «Апокалипсис Иоанна» и «Философия имени».
В самом общем виде духовный путь Булгакова, который, по его собственным словам, был ломанным и сложным, состоит из трех этапов: марксистского («О рынках при капиталистическом производстве», 1897; «Капитализм и земледелие»: в 2 т., 1900 и др.); философского («Свет невечерний», «Тихие думы») и богословского («О богочеловечестве»: в 3 т. Париж, 1933–1945 и др.).
Наибольший интерес с точки зрения реконструкции философских выводов русского мыслителя представляют второй (вплоть до высылки из страны) и третий (эмигрантский) этапы. Богословские работы Булгакова требуют тщательного и тонкого прочтения для вычленения и осмысления философской рефлексии.
Это закономерно, так как, по Булгакову, философия вырастает на религиозной почве и неизбежно должна в своем развитии вернуться к религии на высшем уровне, ибо именно религиозный миф и догмат определяют проблематику философской рефлексии. Получается, что в этом процессе сама мысль вторична. Если философия остается в собственном мыслительном поле, то в результате философия невозможна: ее уделом остается только новое повторение старых и исхоженных уже путей, бег белки в колесе. Булгаков пишет, что состояться философия может только как антиномически обоснованная и религиозная, т. е. догматически обусловленная философия. Свой подлинный смысл философия при таком подходе получает в религии, превращаясь в богословие. Но тогда возникает проблема специфики и особенностей философских интенций, отличия философского дискурса от богословского, проблема, таящая опасность возвращения к пройденной исторически фазе, когда философия выступала в роли «служанки богословия». Впрочем, даже тогда ее не превращали в богословие. История свидетельствует, что на протяжении веков религия и богословие секуляризировалась за счет расширения философского поля. Поэтому необходим, по-видимому, какой-то новый ракурс, который не просто растворяет философию в богословии, а, наоборот, формирует третий путь диалектического единства философии и богословия (точнее, философии и религии), в конечном итоге открывающий новое дыхание у каждой из них. По мысли Булгакова, это и есть путь мировоззрения будущего. Булгаков был прекрасным знатоком истории философии и богословия. Он не мог не понимать невозможности возвращения в прошлое. Поэтому он критически отвергает средневековую формулу ancilla teologie, по которой философия есть служанка богословия. Он обосновывает новую формулу ancilla religiona, по которой философия становится служанкой религии. Для него эта переориентация имеет принципиальное значение, ибо позволяет освятить философию религией, дополнить философское знание религиозным откровением. Именно поэтому философия русского мыслителя имеет основой религиозные интуиции. Для него философия сама по себе, собственными логическими, научными методами не может
построить непротиворечивую картину мира. Реальный тварный мир, описываемый философией на основе человеческого опыта, не в состоянии раскрыть истинные трансцендентальные основы бытия. Он сам требует осмысления и понимания с позиций более глубокого и истинного религиозного опыта, который формируется откровением. Трагедия философии в том и состоит, что она не может быть самостоятельной, самодостаточной. Она приобретает свой подлинный смысл, только опираясь на религию. Поэтому подлинная философия может быть только религиозной философией. При таком подходе философская система русского мыслителя должна была строиться сверху вниз – от осмысления и описания Бога как онтологического начала бытия до выяснения закономерностей реального, тварного мира. Если учитывать реальную эволюцию мировоззрения Булгакова, то получилось наоборот. Прежде всего им была разработана философия действительного мира – «философия хозяйства», которая явилась интересной попыткой осмысления и интерпретации развития человеческого общества на фундаменте экономических, производственных отношений. Затем на основе критического анализа немецкого идеализма, принципиального неприятия рационалистического мышления и марксистской философии Булгаков разрабатывает развернутое философско-религиозное учение, во многом развивающее основополагающие интенции идеалистического осмысления мира, в центре которого находятся Бог и религия как методологические ключи к его пониманию и описанию. Попытка дополнить философию богословием («высшее предназначение философии – быть богословием») завершает мировоззренческую эволюцию Булгакова, реализуясь в статьях и книгах последних лет его жизни. Внутренняя логика философских построений русского мыслителя диалектична. Она фактически опирается на триединство умозрений и обоснований: Бог, мир, человек – таковы диалектически связанные отправные точки философского дискурса. Бог творит мир и себя самого в процессе творения, получая наиболее полное воплощение в человеке. Человек оказывается не просто творением Божьим, образом и подобием Бога, но и одновременно творческой личностью, имеющей собственные потенции, реализация которых позволяет в определенной степени осмыслить Божественную Премудрость, постичь истинную сущность мира. В таком контексте Бог, мир и человек оказываются диалектически связанными и одновременно не сводимыми друг к другу: каждый имеет свои качественные отличия и специфику, каждый подлежит специальному анализу, результаты которого воплощаются в разных отраслях знаний. Ключом к анализу человека является антропология. Разрабатывая свой вариант антропологического принципа в философии, русский мыслитель стремится обосновать новую антропологию, тщательно аргументируя ее с онтологической, гносеологической, аксиологической, эсхатологической и других точек зрения.
Булгаков стремится к синтетическому знанию, в единой парадигме постигающему и описывающему мир. Основой такого подхода становится философия положительного всеединства Вл. Соловьева, опираясь на которую русский мыслитель создает еще один вариант этого определяющего для русского мировоззрения рубежа веков философского направления.
Поскольку Булгаков обосновывает и развивает религиозную интерпретацию философии, догматически его система начинается с осмысления Бога, точнее, божественного творения. Опираясь на традиции идеалистической (Платон, Аристотель, Кант) и богословской (Иоанн Дамаскин, Григорий Палама) интерпретации Бога и его творения, русский мыслитель полагает, что Бог с точки зрения человеческих мыслительных возможностей невыразим ни в каких определениях и понятиях. Более того, Бог фактически является изначальным отрицанием любых определений, фиксирующих любые качества. О Боге можно сказать только то, чем он не является и принципиально быть не может. Поэтому Абсолютным оказывается Ничто как отрицание любых определений Бога. Именно Ничто становится предметом обстоятельного философско-богословского анализа. Ничто обладает производящими потенциалами, имеющими бытийные возможности и в конечном итоге превращающими его в Нечто, т. е. определенное наличное бытие. Получается, что самого Бога определить, наделить определенными качествами, нельзя – у человечества нет таких инструментов познания. Можно изучать лишь творение Бога, так как Бог обнаруживает себя именно в творении. Мир, действительность и есть творение Божье. Булгаков подчеркивает: «Мир содержится в Боге, и в мире действует Бог». Более того, «Бог есть только в мире и для мира». Следовательно, только через осмысление мира можно приблизиться к Богу. Особенно полно Бог познается через человека – венец творения, соподобный творцу. Творя мир, Бог создает самого себя и постоянно участвует в процессе творения. Только через бесконечный процесс творения, превращения Ничто в Нечто, оформления бытия в результате реализации бытийных потенций можно приблизиться к Богу, попытаться осмыслить и описать его трансцендентальную сущность.
Исследование Абсолютного как Божественного Ничто составляет, по Булгакову, основание для апофатического (отрицательного) богословия, которое обязательно должно быть дополнено катафатическим (положительным) богословием. В последнем исследуется Абсолютное, полагающее себя Богом и становящееся таковым для человека. Русский мыслитель разрабатывал катафатическое богословие в своих богословских трудах последнего этапа творчества. Итак, Бог творит мир, который в конечном итоге оказывается материальной действительностью. Тварный мир – материальный мир, находящийся в постоянном движении, в возникновениях и превращениях: он – постоянное «бывание» (Булгаков). Однако многоликость «бывания» имеет общую основу, субстрат, из которого происходит и в который превращается весь многоликий мир. Это и есть материя. Последняя является, согласно античной традиции, которую развивает Булгаков, «третьим родом» бытия – наряду с вещами чувственного мира и первообразами, идеями. Это и есть неоформленная первоматерия как потенциально сущностное, неизбежно реализуемое в бытии.
Русский мыслитель акцентирует внимание на активной материнской роли материи. Она оказывается «Великой матерью – Землей» древних языческих культов, «Землей» первых стихов ветхозаветного Пятикнижия. Отождествление «Земли» и «материи» позволяет акцентированно показать плодоносность последней. Поэтому Земля «насыщена безграничными возможностями» – «в ней потенциально заключено все». Материя является творческим началом, она относительно самостоятельна, так как не просто является творением Божьим, но и имеет собственное активное, творческое основание.
Именно последнее актуализирует связь Земли с Богом. В результате собственных творческих усилий Земля оказывается Богоземлей и Богоматерью. Она в конечном итоге превращается в Богородицу, так как рождает Богочеловека. Последний и есть венец ее творческих усилий. Этот последовательно отстаиваемый Булгаковым взгляд на место и значение материи в бесконечно развивающемся мире позволил ему охарактеризовать свою философскую позицию как религиозный материализм. Следует констатировать, мягко говоря, спорность подобной интерпретации булгаковского учения о материи. Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, как русский мыслитель пытается переосмыслить лучшие, с его точки зрения, достижения чуждых ему философских направлений – материализма, марксизма и др.
Дальнейшее развитие концепции о мире конкретизируется Булгаковым в учении о Софии и софийности. Именно в ней русский мыслитель переосмысливает и интересно интерпретирует концепцию всеединства. По его мнению, София находится между Богом и миром, сама не являясь ни тем, ни другим, но, будучи явлением особенным, фактически соединяет Бога и мир, творца и тварное бытие. Она – Любовь, любовь любви, вся полнота бытия. София, утверждает Булгаков, женственна, она есть «Вечная женственность».
Более того – «она есть идеальный, умопостигаемый мир», «всеединое». В качестве Вечной женственности она становится началом мира.
Любовь оказывается активным началом мира, движущим нервом его развития. Булгаков стремится увидеть в Софии и четвертую (наряду с Отцом, Сыном и Святым Духом) ипостась Бога, Божью матерь и Церковь. Вот каков его обобщающий вывод: «И все это вместе: Дочь и Невеста, Жена и Матерь, триединство Блага, Истины, Красоты, Св. Троица в мире, есть божественная София». София, как видим, фактически превращается в демиурга мира, так как находит свое воплощение как в Боге, так и в его творении. Естественно, такая расширительная трактовка учения о Софии вызвала критическое неприятие как церковно-богословских кругов (она даже была осуждена как ересь), так и религиозных философов (Бердяева, Лосского и др.). И все же именно в софиологии русский мыслитель видит истинное мировоззрение, в котором осуществляется синтез религии, философии и науки. По его мнению, софиология есть подлинное христианское учение о мире. Главная проблема его – диалектически сложные отношения между Богом и миром, Богом и человеком. София соединяет Бога, мир и человека в единое целое. Булгаков стремился своей софиологией соединить жизнь Божественную и жизнь человеческую, объединить тварное человечество с небесной Теантропией. Иначе говоря, речь идет об объединении и отождествлении Софии божественной и Софии тварной.
Софиология является ключом к пониманию антропологии Булгакова, или, точнее, его антропология является частью и реализацией софиологии.
Человек рассматривается русским мыслителем в социологическом, общественном плане прежде всего как личность. «Человек есть ипостась, лицо, личность», – утверждает он. Причем личность никогда не может быть до конца выражена. Она должна быть как то определена, но в конечном итоге оказывается, что личность неопределима, так как остается над всеми своими состояниями и определениями: «Личность есть каждому присущая и неведомая тайна, неисследованная бездна, неизмеримая глубина» (Булгаков). Неизмеримую глубину человеческой личности нельзя исчерпать, измерить. Человек как творение Божие, созданное по образу и подобию Творца, несет в себе свет своего Создателя и реализуется это фундаментальное свойство человеческой природы в вечном и постоянном стремлении к абсолютному творчеству. Однако последнее метафизически неосуществимо: оно дано только абсолютному Творцу – Богу. Творчество человека – это скорее формальная возможность, реализующая жизненный порыв. Это онтологическая реальность человеческого существования, абсолютная по всеохватности, но не всегда находящая адекватные формы воплощения, что зачастую делает человеческое творчество трагическим. Тем не менее и возникновение человека, и его жизнь, и перспективы его существования связаны прежде всего с творческими потенциями и путями их реализации в индивидуальной и общественной жизни. Правда, человеку не дано в конечном итоге создать ничего «метафизически нового», это под силу одному Богу. Он скорее способен воспроизводить идеальный первообраз, так как является его подобием. Человек фактически реализует изначально заложенную в нем Богом жизнетворческую силу, а не творит новую жизнь. Но даже это позволяет не только осмыслить и описать жизнь человека и общества, но и понять абсолютную творческую силу Бога.
Осмысление жизнетворческой силы человека, обстоятельств ее формирования и реализации в общественной жизни позволяет Булгакову последовательно проанализировать значение пола, сексуальности, семьи и т. д. И разумеется, прежде всего любви, софийность которой позволяет человеку преодолеть эгоизм и смерть, обрести бессмертие. Преодоление смерти осуществляется благодаря спасительной миссии Иисуса Христа, который осуществил второе сотворение человека. Именно во Христе человечество принесло покаяние и жертву, что позволило человеку возродиться, а человечеству соответствовать воле Божией.
Подробно анализируя антиномии Бога и мира, Бога и человека, Булгаков диалектически исследует место и значение в этом процессе свободы и необходимости. В конечном итоге решающей оказывается необходимость. «Свобода, – полагает русский мыслитель, – есть общая основа творческого процесса, необходимость же определяет рамки этого процесса и, поскольку предетерминирует свободу, направляет ее путь».
Булгаков считает, что свобода при таком подходе в лучшем случае детерминирует лишь ход исторического процесса, но не его исход. Смысл и исход, т. е. результативность исторического развития человечества, определяет промысел Божий, оказывающийся в результате высшей закономерностью истории. Мир и человек по большому счету чужды свободе – «тварное творчество», реализуя «тварную свободу», оказывается «не творчеством из ничего», а только творчеством «из Божественного что». Поэтому свобода для мира и человека имеет относительный характер. В известной степени она опасна, так как продуцирует порчу и извращение подлинной, истинной жизни, поэтому главное – синхронизировать, согласовать Божественное и человеческое в перспективе развития человечества. Для этого необходимо диалектически соединить «Божественное всемогущественное и тварную свободу… в одно неразрывное целое и тем окончательно согласовать божественное и человеческое». Тогда и будут реализованы эсхатологические прогнозы русского мыслителя. Софийная направленность антропологии Булгакова позволяет ему рассматривать Софию как мировую душу, как «целокупное человечество», являющееся трансцендентальным субъектом истории. Именно этот субъект исторического развития связывает воедино разрозненные действия отдельных индивидов, позволяя увидеть смысл исторического существования человека и человечества.
Умный свет Софии позволяет связать воедино разнонаправленную деятельность исторических индивидов, осмыслить онтологическое единство человечества, которое, по Булгакову, субъективно выражается в постоянном стремлении человечества к осуществлению любви, солидарности, в поисках социального идеала, в стремлении найти нормальное устройство общества, в общественных идеалах всех времен и народов.
В многочисленных книгах и статьях Булгаков исследовал и другие коллизии общественной жизни человека. Он сумел нарисовать впечатляющую панораму человеческих поисков истинного общественного существования, в которую органически вписываются и его незаурядные исследования науки, философии, богословия, искусства, литературы. Булгаков был блестящим общественным деятелем, оставившим заметный след в истории русского общества. Его разностороннее наследие оказалось ярчайшей страницей в русском философском процессе XX в.[386]
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК