Московский период
История Московского княжества начинается во второй половине XIII в., но как влиятельное государство, ведущее самостоятельную политику, оно заявляет о себе несколько позже – в XIV в. Социально-экономический и политический строй Московского государства отличался от социально-экономического и политического строя Киевской Руси. Московия значительно дальше продвинулась по пути феодализации. Это было общество другой исторической эпохи – уже вполне зрелое феодальное общество. Поэтому, несмотря на выраженную преемственность с философией и культурой Киевской Руси, между ними были и достаточно существенные различия. Они проявились в том, что философская мысль Московского государства была более сложной по содержанию и разнообразной по тематике. В ее рамках существовали теоретические и идеологические течения, предлагающие прямо противоположные варианты решения одних и тех же проблем. Представители этих течений вели между собой жесткую борьбу, зачастую выходящую в политическую плоскость. Пример Московского государства показал, что сильная единоличная государственная власть вполне может сочетаться с философским и политическим разномыслием в обществе, с разнообразием научных концепций, с борьбой идеалов и мнений. Правда, для этого необходимо, чтобы в обществе были в достаточно большом числе люди, способные для торжества своих идей идти на великие жертвы.
Основным содержанием философии и культуры Московской Руси была тема государственности и весь круг сопряженных с ней проблем. Предназначение русского государства, статус и облик христианского государя, способы и методы властвования, отношение к другим культурно-государственным образованиям – вот неполный перечень проблем, над которыми напряженно билась русская мысль в течение длительного времени. Итоги этих размышлений концентрировано воплотились в двух мощнейших архетипах российской государственности – Святой Руси и теократии. Их создателями были соответственно Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, вошедшие в историю нашей культуры не только как самостоятельные мыслители и культурные деятели, но и как лидеры двух мощнейших направлений – нестяжательства и иосифлянства. Полемика между ними во многом определила направление развития русской культуры и государственности на многие столетия вперед.
Непосредственной причиной спора нестяжателей и иосифлян было отношение к монастырской собственности и вообще ко всякому владению. В начале XVI в. перед государством и церковью остро встала проблема нехватки земли. Государство нуждалось в ней для обеспечения нарождавшегося класса служилого дворянства, а растущая церковь для удовлетворения внутрицерковных нужд и укрепления своего социального статуса, поэтому любое обсуждение проблемы собственности приобретало значительный резонанс и имело серьезные политические следствия. Но здесь принципиально важно отметить, что данная проблема была лишь поводом для развития целого круга идей, имеющих самостоятельное значение и глубокий культурный смысл.
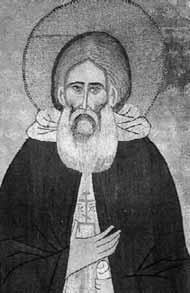
Нил Сорский
Духовным лидером нестяжателей был преподобный Нил Сорский (1433–1508). Он принадлежал к известному и влиятельному боярскому роду Майковых. Еще в юности почувствовал призвание к иноческой жизни и, будучи еще совсем молодым человеком, принял монашеский постриг. Был в ученичестве у известного своими добродетелями старца Паисия Ярославова. Затем много путешествовал по Востоку, долго жил в русском скиту на Святой горе Афон. Там он проникся идеями исихазма, которые затем перенес на Русь. Исихазм – это религиозная теория и соответствующая ей молитвенно-аскетическая практика, разработанная византийским богословом Григорием Паламой (1296–1359), доказывающая возможность прижизненного обожения (слияния с Богом) путем полного отречения от мира с последующим погружением в непрестанную умную молитву. На этой основе строилось учение о Фаворском свете – исходящей от Бога энергии, которую достигший определенного уровня подвижник может увидеть непосредственно. Другими словами, человек может максимально приблизиться к Богу через соединение человеческих и Божественных энергий.
Исихастские идеи были известны на Руси не только через деятельность Нила Сорского. Многие исследователи считают, что их воздействие прослеживается и в подвиге Сергия Радонежского, и в творчестве Андрея Рублева, и в наследии многих других видных деятелей русской культуры. Это дало основание академику Д.С. Лихачеву говорить о «втором южнорусском влиянии». Но на Руси исихазм, сохранив свои исходные принципы, значительно трансформировался. В русском монашестве не привился равнодушный к мирским чаяниям индивидуализм безмолвствующих в молитве. У нас уединение от мира предполагало возвращение к нему через любовь. Поэтому и затворничество было средством совершенствования не ради собственного спасения, а ради служения миру примером.
Вернувшись на Русь, Нил Сорский основал вблизи Кирилло-Бе-лозерского монастыря на реке Соре (Вологодчина) скит. От него ведут начало несколько других духовно родственных скитов Заволжья, иноки которых и получили общее имя «заволжские старцы».
В творчестве и практическо-организаторской деятельности Нила Сорского впервые в русской общественно-политической мысли представлена и развита идея нравственного самосовершенствования личности. Главным грехом, который должен побороть монах, является стяжание, т. е. присвоение результатов чужого труда. Бескорыстие – условие праведной жизни. Подобная жизнь может быть устроена лишь внутри себя, в сфере своего духа. Внешний по отношению к человеку мир устроен таким образом, что праведно жить в нем невозможно, поэтому от него необходимо дистанцироваться, научившись приобретать себе пищу и иные предметы потребления путем своего рукоделия и работы. Ценность указанного рукоделия состоит, помимо прочего, еще и в том, что «сим бо лукавыя помыслы отгоняются».
Знакомство с мировоззренческими корнями движения нестяжателей не оставляет сомнений в том, что они хотели построить общество и церковь, существенно отличающиеся от тех, что существовали в реальной жизни. Церковь должна объединять в себе людей, видящих в служении Богу не средство достижения материального богатства и высокого социального статуса, но путь праведной жизни, т. е. жизни по заповедям, провозглашенным Христом, по нравственным началам, соответствующим природе человека. Внутри этой церкви должен господствовать культ человеческого разума и истинного Священного Писания, а также дух личной свободы, отвергающей подчинение человека человеком, признающий его ответственность только перед Богом. Отношение нестяжателей к государственной власти также было весьма сдержанным. В творчестве Максима Грека, бывшего одним из последователей преподобного Нила, выражена характерная для нестяжателей мысль о земной власти как о воплощении низменных человеческих пороков. Их преодоление возможно лишь на пути следования властителя к образу идеального царя, что предполагает определенное ученичество у духовной власти, воплощенной в фигуре митрополита.
В то время, когда политическая эволюция русского общества шла по пути все большего сосредоточения в особе государя высших государственных и высших церковных функций, нестяжатели предлагали принципиально иную организацию политической власти, при которой два аспекта ее, духовный и материальный, не соединяются воедино, а образуют два обособленных властных центра, с определенным доминированием церкви. Нестяжатели стремились к созданию в обществе независимой от государства, непорочной, а следовательно, предельно авторитетной среди населения духовной власти. Тем самым духовными подвигами Нила Сорского, Сергия Радонежского и их последователей в обществе утверждался идеал Святой Руси.
Наиболее серьезным оппонентом нестяжателей был игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий (1439–1515), также причисленный Русской Православной Церковью к лику святых. Это был человек огромных дарований, неукротимой энергии и блестящих организаторских способностей. Под его руководством Волоколамский монастырь превратился в процветающую обитель, обладающую крупной движимой и недвижимой собственностью. Принцип нестяжания, развитый заволжскими старцами, был направлен против практики феодализации монастырей, а значит, и против деятельности Иосифа Волоцкого, что обусловило довольно жесткую полемику и непростые отношения между ними.
Поначалу государственная власть негласно поддерживала идеологию нестяжателей, несмотря на нелицеприятную критику с их стороны. Дело в том, что данная идеология позволяла провести секуляризацию монастырского имущества, что позволило бы обеспечить землей нарождавшийся класс служилого дворянства. Однако расстановка политических сил скоро изменилась в пользу иосифлян. Сильной светской власти нужна была сильная поддерживающая ее церковь. Идеологией же нестяжательства попыталась воспользоваться феодально-удельная знать, отнюдь не заинтересованная в укреплении централизованной власти. Новая расстановка сил и решила исход борьбы вокруг монастырской собственности в пользу иосифлян.
Иосиф Волоцкий смог предложить московскому государю такую политическую программу, которая позволяла усилить его власть и давала аргументы в борьбе с политическими противниками. Но для Иосифа тесное сотрудничество с верховной властью было не только и не столько поиском материальных выгод для своего монастыря, и тем более не проявлением раболепия перед сильными мира сего. По своей натуре он был личностью цельной, мощной и бескомпромиссной, выше всего ставящей благо церкви и крепость православной веры. Иосиф, благодаря своему богатому жизненному опыту, понял, что в условиях, сложившихся к началу XVI в. в Московии, судьба православной веры и церкви в огромной степени зависит от характера верховной государственной власти и от того, как эта власть будет действовать. Сделав данный вывод, мыслитель постепенно выработал и собственное представление о том, какой должна быть высшая власть, – свой политический идеал. Этот идеал он, без сомнения, стремился воплотить в жизнь, поэтому и обращался к великим князьям Ивану III и Василию III с посланиями, в которых пытался внушить им соответствующие воззрения на их власть, раскрыть ее сущность и функции.
В некоторых исследованиях встречается мысль о том, что Иосиф Волоцкий отдавал приоритет государству перед церковью, принижал ее, был идеологом самодержавия и т. п. Данное мнение происходит из поверхностного знакомства с его произведениями и, самое главное, без учета обстоятельств его жизни. Иосиф был церковным деятелем и всю свою сознательную жизнь отстаивал интересы церкви, вступая из-за этого в жесткие конфликты с великими и удельными князьями и иерархами церкви. Отстаивая независимость церковной организации, он не считал, однако, что государственная власть должна быть поставлена на службу церкви. Его представление о взаимоотношениях государства и церкви не укладывались ни в принцип «царство выше священства», ни в прямо противоположный ему тезис «священство выше царства». В своих посланиях Иосиф Волоцкий горячо проповедует идею Божественного происхождения верховной государственной власти. От Бога цари принимают скипетр царствия, от Бога получают в управление государство. Причем сакральный характер имеет только власть царя, но не удельных князей. Верховная власть, по его мнению, принципиально отлична от любой другой светской власти. Отличие это состоит в том, что Русский государь – это прежде всего хранитель православно-нравственных устоев общества, защитник его от всякого вреда душевного и телесного, от разлагающего воздействия злочестивых еретиков. Провозглашение власти Московского государя Божественной по своему источнику и придание этой светской власти характера власти церковной совсем не означало, что Иосиф Волоцкий был сторонником неограниченной абсолютной монархии, стоящей над церковью. Напротив, сакрализация накладывала на земную власть достаточно строгие ограничения. Причем они не сводились к нормам светского закона, но имели еще и религиозно-нравственное наполнение. Более того, пределы осуществления верховной государственной власти в русском обществе мыслились Иосифом Волоцким не столько правовыми, сколько религиозно-нравственными.
Обобщая исход великого противостояния заволжских старцев и иосифлян в свете перспектив исторического развития, известный историк русской церкви и культуры А.В. Карташов приходит к выводу, представляющемуся достаточно аргументированным: «Словом, если не диктовать древней русской истории современных нам оценок и программ, а признать органически неизбежным генеральный ход ее…, то надо нам, историкам церкви, а не какой-то культуры вообще… признать творческую заслугу величественного опыта воспитания и сублимации московско-имперского идеала как созидательной формы и оболочки высочайшей в христианской (а потому и всемирной) истории путеводной звезды – Третьего и Последнего Рима»[338].
Идеи Иосифа Волоцкого и его последователей непосредственным образом повлияли на становление крупнейшей идеологемы во всей русской истории – концепции «Москва – Третий Рим». Ее формирование и закрепление в общественном сознании было связано не только с философско-богословскими спорами того времени, но и с реальными общественно-политическим процессами XVI в. После Флорентийского собора 1439 г., на котором византийские иерархи пошли на унию с католическим Римом, и с последующим падением Константинополя на Руси все более утверждается мысль о вселенском одиночестве Православия и Руси как его единственной хранительнице. Кроме того, Москва проводит настойчивую политику по собиранию древнерусских земель, захваченных после падения Киевской Руси. Отвоевывая земли на Западе, Россия продвигалась и на Восток. В ее состав вошли Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь, а само Российское государство стало многонациональным, все более охватывающим огромные просторы Евразии.
Идеологема «Москва – Третий Рим» состоит в том, что Российское государство считается преемником Римской и Византийской империй в религиозно-эсхатологическом смысле. Ее можно рассматривать как русскую версию общеевропейских концепций Roma aeterna (Рима вечного) и translatio imperii (переноса империи). В конце XV – начале XVI в. данная идея уже витала в воздухе и с разной степенью полноты представлена в таких произведениях, как «Повесть о белом клобуке» Дмитрия Герасимова, «Изложение Пасхалии» митрополита Зосимы, «Степенной книге царского родословия» и др. Но наиболее четко она представлена в посланиях старца Псковского Елизарова монастыря Филофея (ок. 1465–1542), которые он адресовал великому князю Московскому Василию Ивановичу, царскому дьяку Мунехину и царю Ивану Васильевичу. В 1524 г. в послании к дьяку Мунехину Филофей критикует астрологические прогнозы о конце света и недвусмысленно выражает мысль: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Русское царство, по Филофею, есть единственное православное царство в мире, являющееся хранителем христианских святынь. Оно уже до конца веков, до второго пришествия Христа должно быть оплотом подлинно вселенского христианства, т. е. выполнять мессианскую функцию.
Что двигало старцем Филофеем и русскими людьми того времени, когда они утверждали мессианское призвание Руси? В либеральной историко-философской литературе нередко можно встретить утверждение о непомерных амбициях и превеликом самомнении и гордыне создателей и носителей идеи «Третьего Рима». На самом деле эта концепция носила не гегемонистский, а консервативно-охранительный характер. Она была связана, во-первых, с необходимостью ответа на притязания папского престола, германских императоров и влиятельных правителей Европы, пытавшихся доказать свое политическое первенство. Во-вторых, и это самое главное, на Руси напряженно искали ответ на вопрос, а почему все же пали два Рима. Ответ таков: пали потому, что выхолостили свое духовное содержание, отошли от Духа, изменили Православию, поэтому мессианское призвание Руси состоит в том, чтобы сохранить единственное подлинно христианское царство, подчинив его универсальным христианским заповедям. Идея Третьего Рима не превозносит государство, а, напротив, предьявляет повышенный нравственно-религиозный спрос к нему. Ведь в случае его падения передать эстафету православного царства некому – вся ойкумена уже занята другими неправославными государствами, и других носителей большой православной идеи в мире просто нет. Тем самым принятие русским народом роли хранителя Святой Руси, а русским государством статуса Москвы как Третьего Рима выявило онтологический статус формирующейся Российской империи, позволило четко сформулировать стоящие перед ними исторические задачи. В дальнейшем эти идеи станут сквозными и в известном смысле системообразующими для философской и общественной мысли, приобретут статус центрального звена большой части историософских построений.

Иван Грозный
Тема государственной власти, ее источников и предназначения, а также широкий круг вопросов, касающихся сущности человека и общества обсуждался в известной дискуссии между Иваном Грозным (1530—
1584) и Андреем Курбским (1528–1583). Мы привыкли говорить об Иване Васильевиче Грозном в контексте исторического знания как о государе, чье правление и личность по сей день вызывают жаркие споры. Он был не только политическим деятелем, но и одним из образованнейших людей своего времени. Русские источники говорят, что он был «в словесной премудрости ритор, естествословен и смышлением быстроумен», что «в мудрости никем побежден бысть». По общему признанию, Иван Грозный превосходил знанием Священного Писания даже многих церковных деятелей, причем не только русских, но и чужестранных. Он самостоятельно вел дискуссии с западными богословами, посещавшими Москву, причем делал это на столь высоком уровне, что уличал их в незнании подлинного текста и в противоречивости выводов. Даже его непримиримый идейный оппонент князь Андрей Курбский отдавал должное его образованности и писательскому таланту: «Ведаю тя во священных писаниях искусна».
Незаурядный ум, блестящее образование и писательская одаренность позволили Ивану Грозному создать собственную теорию царской власти. Ее можно назвать теорией православного христианского самодержавия. Именно так русский государь определил существо своей царской власти. У царской власти, по мнению Грозного, два источника – принадлежность к правящей династии, ведущей свое начало чуть ли не от римских кесарей, и Божественная воля. Второй источник он выводил из Священного Писания, в котором сказано, что нет власти кроме как от Бога. Упорное настаивание на идее Божественного происхождения служила прежде всего для обоснования ее полной независимости от общества в целом и каких-либо общественных групп в частности. Тем самым царская власть ему не просто дана, а отдана в его единоличное обладание. Как пишет российский исследователь В.А. Томсинов, «православное христианское самодержавие являлось в его трактовке властью всецело единоличной, независимой от боярства, духовенства – вообще от какой бы то ни было общественной силы»[339].
Выражая желание властвовать, ни перед кем не отчитываясь, Иван Грозный имел в виду свободу царской власти от какого-либо контроля со стороны подданных, но при этом не подразумевал возможности для царя творить полный произвол. Он, например, резко отрицательно относился к Варфоломеевской ночи, в ходе которой была совершена расправа над протестантами, обоснованно полагая, что французский король Карл IX в данном случае творил беззаконие. Беззаконие проистекало из того, что он нарушал Божественные заповеди, которым должен безусловно подчиняться. Тем самым в понимании Ивана Грозного, царская власть – это власть ограниченная, но не людьми, а тем, кто ее дал, т. е. Богом. Ограниченность нормами религии не означала для него отказ от насилия как метода управления делами государства.
Многие идеи Грозного были сформулированы в переписке с его поначалу ближайшим соратником и личным другом, а затем непримиримым врагом князем Андреем Курбским. Андрей Курбский имеет устойчивую репутацию первого русского западника. Вряд ли этот ярлык в полной мере соответствует действительности, но определенные основания для него имеются. В его творчестве ярко проявились черты просветительской идеологии, которая будет разработана в Западной Европе через несколько столетий. Князь Андрей Курбский происходил из знатного рода, по отцовской линии его генеалогическое древо восходило к Рюрику, великому князю Владимиру Святому и другим видным деятелям русской истории. До 1564 г. он служил Ивану Грозному, был его любимцем и влиятельным царским воеводой. Но в связи с изменившейся политической коньюнктурой и утратой благорасположения царя, что грозило смертной казнью, он принимает решение бежать в Литву и поступает на службу к королю Польскому и великому князю Литовскому Сигизмунду II Августу. Уже осенью указанного года он принимает участие в войне против России.
Желая оправдать свою измену, Курбский пишет Ивану Грозному послание, в котором формулирует собственную идейную позицию. Грозный охотно отвечает на послание, завязывается переписка, ставшая крупным явлением русской культурной жизни. Курбский выдвигает против царя ряд принципиальных обвинений. Суть их сводится к тому, что он присвоил себе волю естественного самовластия, пренебрегая необходимостью подчинения закону. Это выражается как в нарушении положительного закона, так и в том, что царь действует без суда и права. Выход из этого состояния Курбский видит на пути ограничения самодержавности царской власти советом мудрейших мужей. Причем мнение совета должно носить не рекомендательный, но обязательный характер. Он доводит свою мысль даже до принципа разделения властей между царем и боярским советом. В этом разделении царю останется по существу лишь право реализации того, что решили бояре.
Известный исследователь отечественной культурной традиции В.Е Вальденберг на основе глубокого текстологического анализа сделал убедительный вывод: «Курбский не представитель идеи прогресса, как думают многие исследователи – напротив, он защитник старины, и притом защитник не бескорыстный». В нем сильны воспоминания об удельных временах: великие князья «слушались во всем старых бояр» и пр. Конечно, не следует вслед за Грозным относить Курбского к «врагам государства». Но, когда речь заходит об управлении государством, в Курбском со всей определенностью сказывается сословная ограниченность[340]. Спор двух мыслителей был разрешен историей. Упрочившаяся самодержавная власть на много веков вперед обеспечила стабильность государства и общества, чего нельзя сказать о принципах, предложенных Андреем Курбским. Пример Речи Посполитой, где самовластный сейм парализовал королевское управление и весь политический процесс, лучшее тому подтверждение. Раздираемая внутренними противоречиями, некогда одна из самых могущественных держав Европы была в XVIII в. разделена между монархиями России, Австрии и Германии.
В творчестве Андрея Курбского видное место занимают идеи о человеке, его достоинстве и предназначении. Опираясь на идеи Аристотеля, русский мыслитель развивает учение о естественной природе человека: «Человек самовластен по естеству и волю имеет по естеству приданную». В разуме человеческом он выделял начало природное, «делательное», связанное с чувствами, и «зрительное, с чувствами ничего общего не имеющее, а помышляющее о Боге». Философия, по его мнению, должна быть учением о человеке, его душе – этикой. Кроме того, в эмиграции Курбский много времени уделял вопросам образования. Он и теоретически отстаивал идеи о пользе просвещения для человека, и практически трудился по созданию образовательных центров. Его усилиями в Остроге было создано училище, где учили не только чтению и письму, но и греческому, русскому, латинскому и польскому языкам, а также грамматике, риторике, поэтике, диалектике, богословию. По этому образцу в конце XVI в. возникли учебные заведения во Львове, Минске, Бресте и Могилеве. Эти учебные заведения повлияли на становление и развитие Киево-Могилянской академии.
Одним из важнейших событий в духовной культуре древнерусского общества, непосредственно повлиявшим на его философское развитие, стал церковный раскол XVII в. После присоединения Украины в 1654 г. обнаружилось, что западнорусское православие, находившееся под юрисдикцией константинопольского патриарха, достаточно сильно отличается от московского православия. Дело в том, что за века обособленного развития христианства в Московской Руси в процессе переписывания богослужебных книг возникло довольно много ошибок. В ходе взаимодействия московского и мало-российского духовенства эта проблема обнаружилась довольно явно, что и обусловило необходимость сверки соответствующих текстов с греческими первоисточниками. Отсюда вытекает распространенное, но совершенно поверхностное представление о том, что причина раскола заключалась в обрядовых расхождениях. Проблема гораздо глубже и коренится в идеологической сфере. Дело в том, что сверка книг и изменение обряда должны были происходить по греческим (византийским) образцам. Но Византия в 1439 г. пошла на унию с Западом, по существу предав православие. Тем самым Руси предлагалось брать пример с Византии, которая погибла, по стойкому убеждению русских людей, именно по причине предательства своей веры. Духовный вождь старообрядцев протопоп Аввакум писал, что у него «сердце озябло» и «ноги задрожали», когда он понял подлинный смысл нововведений. Ибо, если Русь есть «Святая Русь» и «Москва – Третий Рим», то зачем нам брать пример с греков, которые в свое время не смогли сохранить чистоту своей веры. Отречение от русской старины было для староверов отречением от идеи Третьего Рима, т. е. предательством православия, сохранившегося только на Руси. А раз царь и патриарх Никон упорствуют в этом предательстве, то приходят последние времена, конец света. Таким образом, в сущности своей русский церковный раскол середины XVII в. был расколом в политической идеологии русской православной церкви, конфликтом политических воззрений никониан и старообрядцев, хотя внешне представал в качестве раскола религиозного, обрядового.
Обе стороны проявили в конфликте страшное упорство, доходящее до фанатизма, что весьма неблагоприятно сказалось на духовном здоровье русского общества. Ведь в войну вступили самые активные, самые волевые, самые духовно стойкие, одаренные умом и талантом представители русского общества – люди, способные ради своей веры пожертвовать не только мирскими благами, но и жизнью. Это подорвало силы церкви и общества. Многие страшные события последующей русской истории во многом обусловлены трагедией раскола.
Духовным лидером старообрядцев стал протопоп Аввакум Петров (1621–1682). Это был человек огромного таланта и жертвенной преданности делу. Его не сломили ни ссылки, ни лишения: он непоколебимо верил в свое апостольское призвание и яростно боролся за отеческие обычаи и веру. Многие его идеи носят чисто религиозный характер, но у него есть и рассуждения философского плана, несмотря на его скептические отзывы о философии. Для Авакума большое значение имел вопрос об отеческих преданиях, о русскости вообще. Ему была близка концепция «Москва – Третий Рим» старца Филофея. Аввакум тоже утверждал, что с падением Константинополя – второго Рима только в Московской Руси христианство осталось чисто и непорочно. Здесь он, несомненно, выступал предшественников славянофилов, которые признавали его истинным представителем религиозной свободы русского народа. Согласно Аввакуму, вера народа и язык его неотделимы. Каждому народу Бог дал свой язык, свою грамоту, чтобы они, не смешивая молитвы, славословили Господа, поэтому «ни латинъским, ни греческим, ни еврейским, ни же иным коим ищет от нас говоры Господь», – писал Аввакум. Сходные размышления мы находим у него по поводу иконописания и других форм культуротворчества. Он порицает иконы, созданные по плотскому умыслу, где не передаются «тонкостные» чувства. Об одном из иконописных образов Аввакум пишет таким колоритным языком: «…лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстыя, и вес яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано». И далее следует восклицание, рефреном звучащее во всех его произведениях: «Ох, ох, бедныя! Русь, чево-то тебе захотелося немецких поступков и обычаев».
Подводя итог, отметим характерные черты древнерусской философии: 1) практическую направленность и отрицание в связи с этим абстрактного теоретизирования; 2) повышенное внимание к общественно-политической проблематике, активный публицистический характер, осмысление философских проблем на конкретном социальном материале; 3) интерес к прошлому, глубину исторического видения мира, стремление вписать в мировой процесс жизнь каждого народа и отдельного человека; 4) этически акцентированное переживание бытия, стремление постичь непримиримую борьбу добра и зла, через которую раскрывается живая диалектика природы, общества и человека; 5) воплощение философских идей, как правило, в совершенную художественную форму, будь то словесная или изобразительная, высокий эстетический уровень древнерусской мысли; 6) большее внимание к внутреннему миру человека, нежели к внешнему миру, тяга к проблемам духовного бытия[341].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК