Философия истории Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева
XIX век в Европе был ознаменован крупными опытами историософского осмысления многообразия и единства духовных принципов жизни человеческих обществ. В первой половине XIX в. нашло спекулятивное воплощение монистическое, линейно-прогрессивное восприятие культурно-исторического процесса, согласно унаследованной от эпохи Возрождения схеме: жизнерадостная античность – суровое, мрачное Средневековье – бодрое Новое время.
Классическими примерами такой философии истории, полагающей в основу исторического движения некое одно первоначало, будь то свобода (Гегель), познание (Конт), материальное производство (Маркс), и прослеживающей его развитие путем поэтапного рассмотрения различных эпох, могут служить философско-исторические концепции гегельянства, позитивизма и марксизма. В каждой из этих концепций фундаментальное единство истории и различия рассматриваемых типов культуры (формаций) жестко задавались исходной установкой мыслителя, прямо отражающей ценности современной ему эпохи. Причем внутренняя своеобычность иновре-менных культурных миров, эпох, цивилизаций, а также логика их собственного развития были существенно искажены, поскольку они воспринимались сквозь призму инородных им ценностных ориентаций и помещались на отвлеченной шкале европоцентристски понятого исторического времени*.
Сравнительно более объективными с научной точки зрения явились концепции органичных цивилизаций, построенные в свете циклической хронософии и противопоставленные в XIX–XX вв. линейному историзму и европоцентризму. Первое вполне развитое выражение новая точка зрения на всемирную историю нашла в трудах Н.Я. Данилевского.
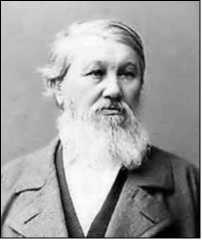
Н.Я. Данилевский
Николай Яковлевич Данилевский (1822 1885) родился в селе Оберец Орловской губернии в семье генерала. Получил прекрасное образование в Царскосельском лицее и Петербургском университете, в котором ему была присуждена степень магистра ботаники. На протяжении всей своей жизни Данилевский успешно сочетал естественнонаучные занятия с напряженным философским осмыслением исторического процесса. Как ученый он провел десятки экспедиций по рекам, озерам и морям России, где занимался изучением проблемы рыболовства: наличного состояния и перспектив развития. Им был разработан проект закона о рыболовстве во всех водах европейской России. В 1860 году Данилевский открыл филлоксеру, болезнь виноградных лоз, представлявшую реальную угрозу российскому виноградарству, и многое сделал для борьбы с этой болезнью. За свою активную научно-административную деятельность был награжден Золотой медалью Русского географического общества. В конце жизни, будучи директором Никитского ботанического сада в Крыму, он работал над фундаментальным трудом «Дарвинизм. Критическое исследование», но смерть не позволила его закончить. Как философ Данилевский получил широкую известность после публикации его книги «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому», опубликованной в журнале «Заря» (1869–1871) и вышедшей отдельным изданием в 1871 году. Идеи, высказанные Данилевским в «России и Европе», вызвали широкий общественный резонанс и бурные споры, в которых принимали участие продолжатель дела Данилевского Н.Н. Страхов, а также В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский.
В области философии истории Данилевский совершает революционный переворот, предлагая принципиально новую модель исторического процесса. В XIX в. общим местом западноевропейской философии и науки была идея всеобщего прогресса, по пути которого с разной степенью успешности идут все без исключения страны и народы. Отсюда вытекали теория европоцентризма и представление о превосходстве одних народов и неразвитости других, как не соответствующих «общепринятым» представлением об идеале общественного устройства. В противовес господствовавшей тогда линейно-прогрессистской историософии русский мыслитель разработал объемно-плюралистическую концепцию исторического процесса. Он утверждал, что и в природе, и в истории царит пространственно-временная упорядоченность. Это значит, что отдельные формы жизни не стоят на различных ступенях «лестницы постепенного совершенствования существ», но представляют собой «совершенно различные планы, в которых своеобразными путями достигается доступное для этих существ разнообразие и совершенство форм»[366]. Соответственно европоцентризму, отождествляющему общечеловеческое и западноевропейское, Данилевский противопоставил теорию целостных и самобытных культурно-исторических типов, которые воплощают творческий дух конкретных народов и, подобно живым организмам, рождаются, совершенствуются, стареют и умирают. Понятие культурно-исторического типа – центральное в учении Данилевского. Согласно его собственному определению, самобытный культурно-исторический тип образует всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, довольно близких между собой, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.
Историческое движение существует только внутри культурноисторического типа, а мировая история может быть понята только как процесс их чередования. Отвергая единообразие и однонаправленность истории, Данилевский отрицает существование одинаковых для разных времен и народов форм общественно-политического устройства и духовно-практического освоения мира. Культурно-исторические миры представляются ему несхожими между собой и несравнимыми с точки зрения превосходства одних над другими, т. е. эквивалентными в ценностном отношении. Таким образом, в историческом бытии Данилевский выделял обособленные замкнутые национально-государственные образования с присущими им чертами в различных сферах человеческой жизнедеятельности. В качестве основных культурно-исторических типов, уже реализовавших себя в истории, философ выделял египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, аравийский и романо-германский (европейский). Эту схему он дополнял также двумя культурно-историческими типами – американским и перуанским, – «погибшими насильственною смертью и не успевшими совершить своего развития». Уже в ближайшем будущем, считал мыслитель, огромную роль в истории предстоит сыграть новой культурно-исторической общности народов – России и славянскому миру.
Человечество, по Данилевскому, может развиваться только разноместно и разновременно, актуализируя различные стороны своего культурно-деятельностного существования. Данилевский выделял четыре основных направления исторической жизнедеятельности народов: религиозное, культурное, политическое и социально-экономическое. Они присущи каждому культурно-историческому типу, но развиты не в равной мере. Каждый культурно-исторический тип в соответствии со своими исходными данными мобилизует усилия в одной или нескольких из этих сфер, чем и определяется его своеобразие, направление развития и историческое призвание – вклад в культурную «копилку» человечества. Ни одна из прошлых или современных цивилизаций не смогла гармонично и полноценно развить в себе все четыре стороны культурно-исторического существования. Философ надеялся, что культурная односторонность может быть в будущем преодолена именно Россией и славянством и возникнет «четырехосновной» культурно-исторический тип.
Важнейшим историческим законом, согласно Данилевскому, является закон непередаваемости культурных начал и ценностей. Каждый культурный тип представляет собой своеобразную историческую монаду, т. е. самостоятельную, независимую и непроницаемую для других культур единицу. Подвергая критике прямолинейно-утопические теории аккультурации, перенесения на все народы единой, окончательной формы человеческой культуры, он пытался обосновать целесообразность самобытного бытия наций и народностей мира. В то же самое время, глубоко изучая историю, мыслитель не мог не признать, что существуют определенные формы преемственности между народами и цивилизациями. Он выделил три формы взаимодействия в истории: «пересадка», «прививка» и «удобрение». Первые два предполагают агрессивное отношение к народности, которая подвергается внешнему насильственному воздействию и уничтожению собственных форм социальной, политической и духовной жизни. Такие способы характерны для романо-германского культурно-исторического типа, основным признаком которого Данилевский считал насильственность. Наиболее же продуктивным, по Данилевскому, является способ удобрения, в ходе которого народ получает возможность развивать собственные задатки, будучи наследником существовавшей на этой территории великой культуры или получая дополнительные средства для своего культурного становления. Принципиально важно отметить, что Данилевский прозорливо видел опасности цивилизаторской миссии одних народов по отношению к другим, ибо она всегда является прикрытием колонизаторских устремлений, связанных с подавлением ростков национальной самобытности, которые со временем могли бы развиться и дать начало целостным оригинальным культурам.
Смыслом и конечной целью написания книги «Россия и Европа» для Данилевского было обоснование самобытности и самодостаточности славяно-русского культурно-исторического типа. Борясь с западничеством как болезнью русской интеллигенции, он ни в какой форме не принимал идеи универсальной европейской цивилизации и не искал в ней место для России. В результате сравнительного анализа выделенных им культурно-исторических типов Данилевский приходит к выводу о высокой исторической ценности славянства и связывает с ним надежды на реализацию проекта связи и гармоничного развития всех сторон культурной деятельности. Славянство не призвано обновить мир и найти для всего человечества решение исторической задачи, но, будучи наиболее полным культурным типом (рядом с которым может иметь место развитие других типов), оно в будущем может утвердиться как наиболее развитый тип.
Размышляя над способом отношений между отдельными культурно-историческими типами, Данилевский далек от благодушия. Каждая цивилизация утверждает свое право на жизнь в жесткой борьбе, соперничестве и вытеснении. «Око за око, зуб за зуб, строгое правило, бентамовский принцип утилитарности, т. е. здраво понятой пользы, – вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования»[367].
Общетеоретические положения стали у Данилевского основой видения и понимания реальных политических процессов. Более того, само построение новой модели истории предопределялось у Данилевского настоятельной потребностью осмыслить сложные и, зачастую, трагические отношения между Россией и Западом. И здесь Данилевский выделяется своим последовательным и бескомпромиссным антизападничеством, Европа и Россия, утверждал русский ученый, принадлежат к совершенно различным культурно-историческим типам и уже поэтому любые надежды на возможность подлинной гармонии в отношениях с Западом – не более чем утопия. «В продолжение этой книги, – писал автор «России и Европы», – мы постоянно приводим мысль, что Европа не только нечто нам чуждое, но даже и враждебное… Из этого, однако, еще не следует, чтобы мы могли или должны были прервать всякие сношения с Европой, оградить себя от нее Китайской стеной: Это не только невозможно, но было бы даже вредно, если и было возможно… Но если невозможно и вредно устранить себя от европейских дел, то… необходимо смотреть на эти дела всегда и постоянно с нашей особой, русской точки зрения (курсив мой – О.Р.)»[368].

К.Н. Леонтьев
Сторонником РЕЯ. Данилевского, продолжателем его идей и в то же время крупным самостоятельным мыслителем был Константин Николаевич Леонтьев (1831 1891). Он родился в семье небогатого помещика в Калужской губернии. Учился на медицинском факультете Московского университета, по окончании его принял участие в Крымской войне (1853–1856). Затем Леонтьев поменял направление своей деятельности и был зачислен на дипломатическую службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Десятилетие (1863–1873), проведенное им на Востоке, стало решающим в формировании его политических и социокультурных воззрений. Оставив службу и пережив тяжелую болезнь, Леонтьев проводит один год в православном монастыре на Афоне. Здесь окончательно сложилось его мировоззрение, выдержанное в духе сурового монашеского аскетизма, что резко контрастировало с эпикурейскими ценностями его юности. Вернувшись в Россию, он занимается философской, литературной и публицистической деятельностью, стяжав себе славу крайнего консерватора и реакционера. Последние годы жизни он провел в знаменитом русском монастыре Оптиной Пустыне, где принял монашеский постриг под именем Климента. Скончался в Сергиевом Посаде в 1891 г. Основными философскими работами Леонтьева являются «Византизм и славянство», «Национальная политика как орудие всемирной революции», «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения».
Леонтьев пытается совместить в своем учении христиански-ортодоксальный и эстетический взгляд на мир. Он утверждает, что прекрасное имеет онтологический статус, ибо в нем гармонично соединяются материальное и Божественное начала мира. Закон существования красоты – «разнообразие в единстве» – отождествлялся им с законом самой жизни. Применяя этот тезис к общественной жизни и историческому процессу, мыслитель полагает, что самостоятельные национально-культурные и государственные образования в своем многообразии и взаимодействии создают возможность противодействия историческому небытию. Провозглашая достижение самобытности главной целью национального и государственного существования, Леонтьев считает, что идеал видимого разнообразия и ощущаемой интенсивности жизни – единственный критерий в оценке социокультурных явлений.
С опорой на этот методологический принцип Леонтьев развивает главный пункт своего учения – идею развития. Отвечая на вопрос о том, что такое развитие, он воспользовался своим богатым медицинским опытом и эстетической интуицией и сформировал ответ следующим образом: «Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему…Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности…. Высшая точка развития… есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством»[369]. Проверив верность этого утверждения на истории болезни, развитии философии, искусства, планет, живых организмов, Леонтьев придает ему статус закона. Согласно данному закону, в процессе развития можно выделить три этапа: 1) первичной простоты; 2) цветущей сложности; 3) вторичного смесительного упрощения.
Разделяя утверждение Н.Я. Данилевского о том, что главным субъектом исторического процесса является культурно-исторический тип, Леонтьев анализирует его динамику, характеризуя содержание каждого этапа. По Леонтьеву, движение культурно-исторического типа к «цветущей сложности» означает формирование специфических национальных традиций, появление ярких личностей, возрастание социальной дифференцированности, усиление «дисциплинирующего воздействия» религии и государственности, обособление от других культур. Русский мыслитель задолго до О.Шпенглера выдвинул идею о возможности угасания культуры и превращения ее в цивилизацию. Для Леонтьева цивилизация, т. е. угасание культуры, проявляется в смешении сословий, принижении религии, подвижности и шаткости властей, сходстве воспитания. Леонтьев полагает, что вступление в стадию «смесительного упрощения» – это процесс, которого не удастся избежать никакой культуре. С его точки зрения, самые долговечные культурно-государственные образования не насчитывали более 1000–1200 лет.
Объектом самого пристального внимания Леонтьева была европейская культура. Он связывает начало ее расцвета с Верденским договором 843 г., когда на базе распавшейся империи Карла Великого образовались Франция, Германия и Италия. Вплоть до XVIII в. Европа разнообразно и неравномерно развивается. Началом ее конца для Леонтьева стала Великая французская революция, одним из лозунгов которой было равенство. Многими людьми и в Европе, и в России торжество свободы и равенства было воспринято как проявление могущества человеческого разума и очередной шаг на пути прогресса. Леонтьев же видит в процессах демократизации, секуляризации, ломки феодальных структур и политических институтов приближение конца истории. Восприятие настоящего и предвидение будущего у него окрашены в эсхатологические цвета. Русского мыслителя не обольщает сложность европейской машинной индустрии, административной системы и системы судопроизводства – все это лишь орудия смешения. ІДель и результат их один – «торжество царства середины», господство буржуа, самодовольного и пошлого. Вряд ли во всей истории русской и мировой мысли можно найти столь откровенную и пламенную ненависть к тому царству всеобщего мещанства, которое составляет, по убеждению Леонтьева, настоящий объективный смысл того, что он называл «эгалитарный процесс» – западного идолопоклонства всеобщей пользе и земному раю. Мещанско-утилитарный и эвдемонистический идеал прогресса отвергается Леонтьевым в соответствии со всеми принципами его мировоззрения. Он отвергается им научно за «мечтательство» под флагом мнимого реализма, эстетически – за однообразие и унисон и, наконец, религиозно – за безбожную и высокомерную мечту о земном счастье вне Бога.
Наделенный недюжинным писательским талантом, Леонтьев не скупился на проклятия в адрес европейского буржуазно-либерального общества. «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий буржуа в безобразной комической одежде своей благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия… Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки». «О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! С конца прошлого века (XVIII – прим, мое – О.Р.) ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих рождается новая мышь. Рождается самодовольная карикатура на прежних людей: средний рациональный европеец в своей смешной одежде, с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью. Нет, никогда еще в истории до нашего времени не видел никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идолом однородного, серого, рабочего и безбожнобесстрастного человечества». «Это все лишь орудия смешения – это исполинская толчея, всех и всё толкущая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы, все это – сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и вся к одному знаменателю. Причины эгалитарного процесса – сложны; цель – груба и проста по мысли. Цель всего – средний человек, буржуа, спокойный среди миллионов таких же средних людей»[370]. Такие страстно полемические суждения у Леонтьева вызывает наступающее «царство мещанства», которое он ненавидел всеми силами своей души.
Данное состояние европейской культуры представляет огромную опасность для России, которая, согласно Леонтьеву, еще не достигла пика своего развития. Поэтому влияние западных уравнительных идей может помешать ей раскрыть свой культурный потенциал. Мыслитель полагает, что спасение будущей России находится в ее прошлом – «византизме», т. е. началах государственности и религии, воспринятых Русью в эпоху князя Владимира, христианизировавшего Русь. «Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь… Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Димитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь… Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости»[371]. С целью практической реализации принципа византизма Леонтьев предлагает ряд реформ консервативного характера, долженствующих обеспечить православие и его усиление, самодержавие и его незыблемость, сообразный с требованиями жизни сословный слой, «сохранение в быте нашем, по мере сил и возможности, как можно больше русского; а если посчастливится, то и создание новых форм быта; независимость в области мышления и художественного творчества»[372]. Византизм поможет сохранить силу русского духа и крепость российской государственности, которые будут спасительными не только для России, но и для Европы. В отличие от Данилевского, настаивавшего на безусловной самостоятельности славяно-русского типа, Леонтьев видит связь русской и европейской культур. Он надеется, что Россия может защитить лучшие и благороднейшие начала европейской жизни, защитить ту самую великую старую Европу, «которой мы стольким обязаны и которой хорошо бы заплатить добром».
Последние годы жизни мыслителя прошли в тяжелейших мировоззренческих страданиях. Он ясно видел, что Россия не только не идет по пути сохранения своей культуры, но, напротив, с энтузиазмом устремилась в «бездну неизмеримую». Леонтьев замечал в жизни России все больше признаков, свидетельствующих о ее вовлеченности в процесс «вторичного смесительного упрощения»: конституционные мечтания, утрата значения традиционной религии, повышение статуса буржуа-предпринимателя и рационально мыслящей интеллигенции и т. п. Однако его современники скептически или равнодушно относились к леонтьевским опасениям. Только значительно позже, уже в XX в., стало ясно, что многие суждения К.Н. Леонтьева были пророческими. Крупнейший историк русской философии В.В. Зеньковский писал: «Можно сказать с уверенностью, что интерес к Леонтьеву будет лишь возрастать… В свете трагических судеб России взгляды Леонтьева, его отдельные суждения приобретают особенную значительность по своей глубине и проницательности. Только теперь становится бесспорным, насколько хорошо разбирался во многих проблемах ясный и независимый ум Леонтьева».[373]
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК