Философия пола В.В. Розанова
Василий Васильевич Розанов (1856 1919) родился в семье мелкого чиновника. Проведенное в бедности детство оказало значительное влияние на личность и воззрения Розанова. В гимназические годы Розанов, как и большинство его современников, увлекся позитивистскими и социалистическими идеями (Г. Бокль, К. Фогт, Д. Писарев), которые быстро утратили для него ценность во время учебы на историко-филологическом факультете Московского университета, где его кумирами становятся профессора В.И. Герье, 11.PI. Стороженко и др. После окончания университета философ на несколько десятилетий становится учителем провинциальных гимназий. Затхлый мир провинциального общества и сложные перипетии личной жизни (женитьба, вторичное тайное венчание и т. д.) также сказались на формировании его взглядов.
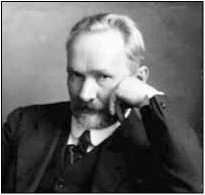
В.В. Розанов
С 1893 г., когда Розанов переезжает в Петербург, начинается его жизнь мелкого чиновника и особенно публициста. Его постоянным местом работы становится скандально известная правой политической ориентацией газета А.С. Суворина «Новое время». Тем не менее Розанов активно участвует в русской периодике чуть ли не всех политических оттенков – от крайне правых до крайне левых. Он систематически издает книги («Легенда о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского», 1894; «Сумерки просвещения», 1899; «Религия и культура», 1899; «Около церковных стен»: в 2 т., 1906; «Уединенное», 1912; «Опавшие листья. Короб первый», 1913; «Опавшие листья. Короб второй», 1915; «Апокалипсис нашего времени». Вып. 1-10, 1917–1918 и др.), ставшие заметными вехами русской общественной мысли того времени.
Существенное влияние на мировоззрение мыслителя в эти годы оказали консервативные философы и публицисты – Н.Н. Страхов («крестный отец в литературе»), проф. С.А. Рачинский, К.Н. Леонтьев («романтический реакционер»).
Мировоззренческая позиция В.В. Розанова при поверхностном взгляде может показаться эклектичной: в разных работах и особенно в публицистических статьях упор делается на взаимоисключающие идеи, зачастую обосновываются явно парадоксальные утверждения, высокодуховные выводы соседствуют с низменно плотскими наблюдениями – идейное многоголосье как бы нивелирует авторскую позицию.
В действительности при всем мировоззренческом плюрализме русского мыслителя в конечном итоге все-таки обнаруживается его базовый идейный фундамент. Он состоит прежде всего в методологии автора, стремящегося точечно зафиксировать жизненный поток, причем зафиксировать в его формировании, течении, переливах оттенков и коннотаций. Розанов пытается увидеть жизнь не столько отвердевшей, отлитой в конечные формы, сколько становящейся, причем становящейся в мимолетном. Его магически притягивает «мир неясного и нерешенного» (так он и назвал одну из своих книг), ибо нет, по его мнению, единых метафизических ответов даже на главные жизнестроительные вопросы. Достаточно вспомнить христианство, которое должно определять человеческую жизнь: фактически оно оборачивается к человеку «темным ликом», рождая «людей лунного света».
Подлинное мировоззрение, по Розанову, вырастает из уединенного, личностного, человеческого, слишком человеческого, если пользоваться словами Ницше. Жизненный поток в его произведениях находится в постоянном изменении, демонстрируя разные стороны жизни, совокупность которых и составляет ее многообразие, многокрасочность. Философское осмысление этого потока и порождает взаимоисключающие констатации и описания, каждая из которых имеет право не только на существование, но и на одновременную жизнь с другими – даже контрастными.
Отсюда и идейная пластичность русского мыслителя, органичность взаимоисключающих, но сосуществующих подходов. Трудность данной коллизии усиливается парадоксальностью Розанова-философа, которая в свою очередь углубляется стилистическими изысками. Стиль для Розанова зачастую самоценен. Он делает философские коллизии розановских работ еще более парадоксальными, формирует причудливую авторскую позицию, требующую усилий для понимания.
К подобным мировоззренческим и стилистическим особенностям Розанов шел через трудную, мучительную философскую эволюцию. Еще в гимназические годы будущего мыслителя «занимала мысль уложить в хронологические данные все море человеческой мысли… Вообще история наук, история ума человека всегда мне представлялась самым великолепным зрелищем».
Осмысление этого великолепного зрелища акцентирует внимание на человеке и его жизни, на проблеме счастья, причем счастья как искусственной проекции субъективных желаний на «естественные цели человеческой жизни». В результате Розанов приходит к выводу, что решить эту основополагающую проблему можно только через осмысление природы человека. По сути, это шаг к антропологическому принципу в философии. Закономерным результатом мировоззренческих поисков философа явилось написание обширного трактата «О понимании: Опыт исследования природы границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (1886). Как следует из названия, в центре исследования – метафизические проблемы «цельного знания», осмысляемые наукой и философией. Автор стремится системно, в духе традиционных философских трактатов, изложить свое понимание истины. Зачастую у него это получается слишком схоластично и рационалистично. Академическая манера изложения, тонкости логицирования демонстрируют умственные возможности автора, но затрудняют освоение этого произведения.
Наука и философия, имея единый объект исследования, фактически раздваивают единую действительность разными способами ее описания. Снять это раздвоение возможно только за счет выхода за пределы науки и философии – в сферу понимания. Понимание завершает деятельность разума, реализуя в созерцании познавательные возможности субъекта познания. Разум в свою очередь реализует потенциальные возможности сознания, объективируясь в процессе познания. Поэтому в самом разуме следует различать структуры, определяющие собою возможное познание, а вне разума – стороны бытия. Знания, которые максимально полно соответствуют структурам разума и охватывают все стороны бытия, в совокупности составляют понимание. Понимание полиструктурно, так как состоит из семи идей – существования, сущности, свойств, причины, цели, сходства и различия, числа. Каждая из идей представляет собой реализацию потенций разума, объектом которой являются стороны бытия. Перечисленные идеи фактически являются и границами познавательной деятельности, и пределами знания, которым может обладать человек. Понимание структурировано, оно имеет свои сферы бытия – учение о познающем, о познавании и о познаваемом. Каждая из сфер понимания имеет свою структуру, свои отделы и подотделы. В совокупности это и есть исчерпывающее описание человеческого понимания. Именно в нем снимается противоречие между наукой и философией, между опытным и умозрительным: понимание есть диалектическое единство того и другого. Оно оптимистично и достоверно, так как знает границы, до которых дойдет, и пути, по которым достигает их. Еще до познания оно твердо знает что, где, как должно быть изучено и осмыслено. В понимании деятельность разума находит свое разрешение.
Однако первый опыт построения философской системы оказался неудачным: книга, в которой он был изложен, прошла незамеченной, хотя многие ее подходы, чаще всего в переработанном виде, мы находим в произведениях Розанова последующих лет.
Преодоление рационалистического систематизаторства у Розанова происходило за счет его художественной и публицистической деятельности, приобщения к русским философским истокам, прежде всего к творчеству Достоевского («Легенда о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского», 1894). В центре его изысканий теперь находятся человек и жизнь, а не онтологические проблемы бытия, не системность мира. Человек живет здесь и сейчас, в конкретном временном бытии и реальном его переживании. Именно личные переживания формируют понимание человека. Поэтому, полагает Розанов, «смысл не в вечном, смысл в мгновениях». Совокупность мгновений и составляет жизнь человеческую, которая не только мимолетна, но и вечна, поскольку полна вечного смысла. Пытаясь найти причины реальной «ежеминутной» и длительной жизни человека в обыденных реалиях его существования, Розанов приходит к проблеме пола и семьи. Пол определяет его философию мира, семья – социологию общества. «Все инстинктивно чувствуют, – полагает он, – что загадка бытия есть собственно загадка рождающегося бытия, т. е. что это есть загадка рождающегося пола». Мир как единый живой организм существует и развивается через «половые слияния» (Розанов). Поэтому даже душа человека является «каплей метафизического существа», попавшей «в земные условия» в момент «слияния отца и матери». Пол, таким образом, восходит к вечной метафизической сущности мира – к Богу. Обожествление пола ведет к тому, что реальное, земное становится божественным. Однако табуированный мир не в состоянии это понять. Отсюда критический, стыдливый взгляд на истинную основу действительности. И Розанов в своих книгах всячески борется с ханжеством подобных подходов, апеллируя к библейским книгам и ветхозаветным заповедям. Даже известную заповедь «не прелюбодействуй» он истолковывает, делая упор на предлог «пре», т. е. в смысле «не действуй кроме любви» – «дел сей заповеди не твори кроме, опричь, за исключением любви». Пол позволяет Розанову увязать человека с Богом, включить его в единый божественный мир («связь пола с Богом – большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом»). И осуществляется это через семью, которая и есть религия, «самая аристократическая форма жизни». Именно в семье разрешаются все антиномии пола.
Так своеобразно, через пол русский мыслитель приходит к Богу, церкви, к неортодоксальному христианству, которое зачастую сочетается и с богоборческими мотивами (особенно при анализе русской церковной жизни). Его позиция в религиозных вопросах систематически критикуется даже близкими ему людьми (например, Флоренским).
Антиномичность, противоречивость розановского мировоззрения особенно ярко проявляется в его философско-художественной эссеистике («Мимолетное», «Опавшие листья» и т. д.). Краткие, зачастую афористичные заметки-наблюдения автора построены по ассоциативному принципу и посвящены практически всем интересующим его мировоззренческим проблемам. В сфере социальной Розанов – яростный апологет существующего строя, чрезвычайно резко, в духе своих учителей Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева, критикующий идеологических противников – либералов-западников, революционных демократов, народников, социалистов. Нелицеприятная и во многом справедливая оценка, данная Розановым этим направлениям русской общественной мысли, во многом продолжает традицию «Бесов», однако розановский полемический задор снижают апелляции к власти, к «городовому». Впрочем, и власть оценивается философом весьма критически (сборник «Когда начальство ушло»). Интересный аспект розановской эссеистики – субъективный анализ истории становления русской общественной мысли начиная с конца XVIII в. Эмпиризм и рационализм усвоенной русской интеллигенцией европейской философии для Розанова неприемлемы: заимствованные мировоззренческие доктрины, прямолинейно сводящие все сущее к результатам опыта или логических построений, оказываются бессильны в вопросах «сердца».
В сфере религиозной Розанов – приверженец православия, трактуемого, однако, через призму центральной в его творчестве проблемы пола. В связи с этим объектами розановской критики становятся как официальная церковь, так и современники – религиозные философы (Вл. Соловьев, Д. Мережковский). На стыке религиозной и социальной проблематики рассматривается в творчестве Розанова актуальный в то время еврейский вопрос. Розановская тяга к парадоксам сказывается и здесь: консерватор-охранитель и ортодоксальный христианин, он, с одной стороны, временами скатывается до антисемитизма (что привело к исключению мыслителя из Религиозно-философского общества), с другой – с не меньшим пылом восхищается иудаистской регламентацией морали и быта, отношением иудаизма к проблеме пола. В конце жизни, эсхатологически осмыслив революцию («Апокалипсис нашего времени» и др.), Розанов усматривает положительные стороны и в язычестве, полемически преувеличивая неспособность традиционного православия противостоять разрушительной инерции социального катаклизма.
Ракурс рассмотрения Розановым проблемы пола заставляет говорить о его близости к философии жизни: критериями подлинности социального, мировоззренческого, религиозного и даже повседневно-бытового становятся органичность, укорененность, семейственность, несводимые, впрочем, к банальной физиологии. Постоянно присутствующий в произведениях Розанова мотив одиночества, заброшенности во многом предвосхищает экзистенциализм. В целом можно говорить об осуществленном Розановым художественном синтезе целого ряда тенденций и направлений современной ему философии. С одной стороны, чтение многочисленных произведений Розанова – пиршество чувств и ума. С другой стороны, оно требует больших усилий для понимания в силу противоречивости, мимолетности всего созданного Розановым. Да и сама личность русского мыслителя была неоднозначной: глубинная в мировоззрении и обывательская в поступках; духовно богатая в творчестве и беспринципная в общественной борьбе; истово верующая и примитивно сексуально озабоченная. Эти и другие антиномии духовных исканий Розанова органично характеризуют его творчество, оказавшее заметное влияние на стиль и дух русского философствования[382].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК