Философская антропология[302]
Традиционно формирование философской антропологии связывают с именами Д. Вико, X. Вольфа, французских материалистов. Страстным приверженцем специального выделения собственно антропологических исследований был И. Кант. Ему принадлежит мысль о том, что о человеке как уникальном существе можно философствовать отдельно и особо. Человек – предельно захватывающий и загадочный объект философского умозрения. По мнению Канта, самый главный предмет в мире, к которому могут быть применены знания, – это человек, ибо он сам для себя есть последняя цель. Для раскрытия его тайны нужны самостоятельные, специфические средства. В этом значении философская антропология противостоит традиционным сферам философского знания.
Однако к XX в., по мнению одного из основоположников философской антропологии как особого философского направления М. Шелера, философия забыла вопрос, который Кант считал синтезирующим всю философскую проблематику: «Что есть человек?» Сознание образованного европейца, когда он пытается ответить на вопрос «Что есть человек?» ограничено, с точки зрения Шелера, тремя идеями: греко-античным образом человека, иудейско-христианским и естественнонаучным. Единой идеи человека у философов нет, поэтому никогда еще в истории человек не становился настолько проблематичным для самого себя, как в настоящее время: все идеи человека оказались поставленными под сомнение[303].
Подорванность идеи человека отразила в начале XX в. не столько кризис понимания человека философией, сколько кризис самого человека, столкнувшегося с разрушением основ своего бытия: мировые войны, социальные революции, потрясения в обществе обнаружили непрочность и проблематичность человеческого существования. Человек начал терять доверие к общезначимым философским и религиозным принципам и нормам, которые поддерживали его веру в факторы, обеспечивающие прогресс. Общество оказалось в ситуации ценностного вакуума: критерии и ценности, придававшие значение и смысл человеческой жизни, начали распадаться. Мировоззренческо-ценностный кризис многими воспринимался как кризис человеческого разума, гуманности, как закат человеческой цивилизации вообще. Драматизм истории объяснялся разгулом темного, бессознательного начала в натуре человека, бессилием человеческого разума и духовности. Вызревали идеи радикального разочарования в истории, в возможности разумного миропознания и мироустройства. І Ісихологический фон эпохи был окрашен настроениями человеческой покинутости, заброшенности, предоставленности людей самим себе.
Многими мыслителями закат цивилизации воспринимался не только как кризис самого человека, но и как кризис его понимания. В отсутствии единой идеи о человеке усматривалась главная причина, объясняющая и определяющая неустойчивость человеческого бытия. Осознание кризиса и породило своеобразный антропологический поворот в западноевропейской философии, выражением которого явилось формирование особого течения немецкой философской мысли – философской антропологии.
Для понимания сущности и направленности философской антропологии ключевыми являются взгляды ее основоположников – немецких мыслителей М. Шелера и Г. Плесснера. Они не просто дали начало этому философскому течению, но и в значительной степени определили его содержательную сторону, сформулировали общую программу философской антропологии, ее основную проблематику, важные методологические принципы, ряд теоретических положений, получивших свою дальнейшую разработку в трудах их последователей.
Основоположники этого течения, осмысливая ситуацию в сфере человековедения конца XIX – начала XX в., были вынуждены констатировать: целостный философский образ человека рассыпался – историко-философская антропологическая традиция содержит ряд фундаментальных, но контрастных по сути образов человека. И хотя антропологических архетипов много (Шелер насчитывал пять типов антропологических учений, выработавших собственную модель человека: христианское, антично-греческое, натуралистическое, теорию декаданса, концепцию сверхчеловека)[304], до всеохватывающего определения человека дело не дошло. Историко-философское знание, хотя и сформулировало ряд самостоятельных, суверенных образов человека, не создало специального философского учения о человеке. Ни одно из учений не носило характер самостоятельной антропологической концепции, т. е. они содержали лишь определенное понимание человека, вытекавшее из основоположений той или иной философской системы и подчиненное доминирующей в ней проблематике – онтологической, гносеологической, логико-методо-логической и т. д. В этих учениях человек не приобрел статуса исходного пункта и главного предмета философствования.
Представители философской антропологии разрабатывали свое учение в полемике с господствовавшими в начале XX в. позитивистским и неокантианским методологизмом и гносеологизмом, выдвигали требование от исследования природы знания перейти к постижению природы бытия, прежде всего человеческого бытия. Если со времен Декарта познание рассматривалось в качестве определяющего момента всякого философствования, то представители философской антропологии видели в нем лишь одну из функций сознания, а само сознание понимали как составную часть всей целостной человеческой жизни. Философия, по их мнению, должна исходить не только из познающего субъекта, но и из целостного, жизненного субъекта, из всеохватывающей связи жизненных отношений, из целостности человека. Во всех прежних концепциях человек рассматривался односторонне: либо объективистски, либо субъективистски. Объективизм состоял в том, что человек понимался как составная и зависимая часть некоего абсолютного целого, где человеческое сводилось к различным внечеловеческим сферам бытия (Космосу, мировой разумности, Божественному провидению, вечным и абсолютным идеям, природе, исторической необходимости, общественным отношениям и пр.) и объяснялось их законами и принципами. Человеческая сущность полагалась как предопределенная материально-объективными или трансцендентно-духовными факторами.
Субъективистски человек и его бытие объяснялись исходя из его субъективного «Я». Человек понимался как существо, полностью или частично автономное, свободное от объективных установлений. Субъективисты искали основание индивидуального бытия в глубинных сферах внутренней жизни человека, в спонтанной разумной деятельности, в волевых импульсах и стремлениях. Представители философской антропологии претендовали на преодоление этих крайностей, на создание всесторонней, синтетической концепции человека. Философско-антропологическое познание и объяснение человека также мотивировалось разрушающим воздействием естественных и гуманитарных наук на традиционные представления о человеке. Постоянно растущее множество специальных наук скорее затемняло представление о сущности человека, нежели проясняло его – человек становился еще более непостижимым и загадочным. Он как бы оставался за пределами научного знания, его образ разбивался на тысячи кусочков, и представления о нем растворялись в разрозненном знании. Не отрицая предметного познания человека, представители философской антропологии считали, что философия не должна дать загипнотизировать себя верой в науку, в ее всесилие. Кроме научного, нужен особый философский подход, выходящий за рамки науки. Немецкие мыслители ставили перед собой цель: путем объективного осмысления и использования разнообразного накопленного научного знания восстановить целостный философский образ человека. Для этого необходимо, по их мнению, создать специальную философскую дисциплину, способную стать методологической и теоретической основой современных конкретных наук о человеке. Имя этой науки – философская антропология. Как же конкретно эта задача реализовывалась в концептуальных построениях основоположников философской антропологии?
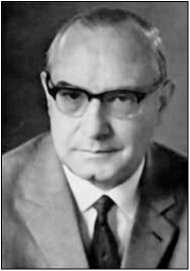
Макс Шелер
Традиционно родоначальником философской антропологии считается немецкий философ Макс Шелер (1877–1928), который очертил программу философского познания человека во всей полноте его бытия, но не успел ее реализовать. Основными его работами по антропологии являются «К идее человека» (1915) и «Положение человека в Космосе» (1928).
Шелер последние годы своей творческой жизни посвятил созданию интегрального учения о человеке. Он хотел создать философскую антропологию, способную раскрыть сущностную специфику человека, метафизическое положение человека в мире. В философской антропологии Шелер видел главную науку о человеке, его природе и сущности, «Задача философской антропологии, – писал Шелер, – точно показать, как из основной структуры человеческого бытия… вытекают все специфические монополии, свершения и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие, идеи праведного и неправедного, государство, руководство, миф, религия, наука, историчность и общественность»[305]. В отличие от редукционистских учений о человеке, в которых последний анализировался как зависимая часть некоего целого (природы, общества), новое учение, – по мнению Шелера, – исследует человека в его тотальности (целостности) и самоценности, как творческую и свободную личность. Только на этой основе, считал философ, вырабатываются принципы, руководствуясь которыми можно защищать достоинство и свободу человека.
Философская антропология должна соединить конкретно-научное изучение различных сторон и сфер человеческого бытия с философским их осмыслением, постичь человеческое в человеке, проникнуть в его истинное ядро, его свободную и творческую сущность, создать целостный образ человека. При этом она не вторгается в частно-научные теории человека, а критически осмысливает их границы и возможности. Естественнонаучное понятие человека способно показать лишь его признаки как живого существа, отличие человека от животных на основе рассмотрения отдельных параметров, носящих количественный характер. Естественная эволюция может сформировать человека как природное существо. Необходимо сущностное понятие человека, которое укажет на его особое положение в биопсихическом мире и Космосе. Таким образом, полагает Шелер, сущностное отличие человека от всех других живых существ из эволюции не выводимо.
Сущность человека определяет не интеллектуальная деятельность (практический интеллект есть и у животных), а нечто такое, что возвышается над интеллектом и не приобретается даже при бесконечном повышении степени интеллектуального развития. Это «нечто» лежит за пределами психики. Сущность человека, убежден Шелер, – в духе. Дух – более емкое понятие, так как он предполагает не только дискурсивное мышление, оперирующее понятиями, но и сущностное видение вещей (созерцание первофеноменов, т. е. абсолютных и вечных сущностей и ценностей). Дух включает в себя высшие эмоциональные проявления человека – доброту, раскаяние, благоговение, удивление. Проявляет себя дух в самосознании (человек способен осознать себя центром духовных актов), во владении человека самим собой и в свободном осуществлении своих действий. Центром всех этих актов и проявлений выступает человеческая личность, и в этом проявляется духовность человека. Поэтому человек как личность может быть хуже или лучше животного, но он никогда не может быть приравнен к последнему.
Отношение человека к миру принципиально отлично от отношений животных. У животных отношение к миру зависит от их психофизиологических состояний. Духовное существо не привязано к миру, оно свободно от окружающей среды. Человек дистанцируется от среды. Он безгранично открыт миру, способен к безграничному трансцендированию (выходу за любые актуально данные пределы).
Духовность, по Шелеру, обеспечивает независимость человека от влечений и интеллекта, инстинктов и потребностей, порождает способность к бескорыстно-любовному отношению к миру.
Самой трудной проблемой для Шелера явилось объяснение возникновения духа. Он считал, что духовное конституируется благодаря возможности человека сказать «нет» миру в противовес животным, которые говорят только «да». Возникает же дух из неких метафизических основ бытия. О них ничего нельзя сказать, можно лишь признать их существование.
Человек представляет собой единство телесного, душевного (психического) и духовного начал. Его сущность, по Шелеру, – в движении, в постоянном духовном преобразовании себя, в актах выхода за свои пределы, в самостроительстве. Человек, полагает философ, – это существо, превосходящее себя самое и мир, принципиально незавершенное, открытое для мира, для возможностей действия, способное и вынуждаемое делать выбор.
В реальной жизни, истории духу противостоят инстинктивные порывы. Это два элемента, не сводимые друг к другу, живущие в человеке и мире. Дух призван направлять эти порывы, придавать им определенную форму, соединять инстинктивные побуждения с высокими идеями, чтобы они приобрели характер созидательной исторической силы. Поэтому, считает Шелер, целью и задачей человечества является достижение относительной гармонии этих двух сил при определяющей роли духовного начала.
Обозначенные выше положения Шелера и смысл его учения в целом с полным правом можно рассматривать как гуманистические по своей сути и нацеленности, так как они исходят из идеи самосозидающего, трансцендирующего, открытого различным возможностям человека.
Второй фигурой, выделяемой среди создателей философской антропологии, является немецкий мыслитель Гельмут Плесснер (1892–1985). Главные его работы – «Ступени органического и человек» (1928), «Смех и плач» (1941). Идеи Плесснера оказали впоследствии значительное воздействие на развитие современной философской антропологии. Взгляды Шелера и Плесснера на задачи философской антропологии во многих существенных моментах совпадают. Новая наука должна постичь человека во всей его полноте, охватить весь опыт его существования. Цель философской антропологии – выявление базисной структуры человеческого бытия и объяснение на этой основе специфики человеческого существования в мире.
Построение своей концепции Плесснер начинает, как и Шелер, с анализа положения человека как биологического организма в ряду других организмов («человек есть тело»). Сравнивая человека и животных, он приходит к выводу, что животные обладают замкнутой организацией, их жизнь центрична. Человек в отличие от животных способен дистанцироваться по отношению к своей жизни, т. е. его жизнь эксцентрична. Человек – не просто тело, он – «Я в теле», наконец, он есть «Я».
Человеческое «Я», по мнению Плесснера, – это тот пункт, из которого человек способен созерцать сценарий своей внутренней жизни.
Человек – единственное в мире существо, обладающее эксцентрической позициональностью, и в этом состоит его базисная структура (сущность). Его тройственность («тело», «Я в теле», «Я») определяет троякое членение мира человека. Как телу человеку мир дан как внешний мир. Как «Я в теле» человек обладает внутренним миром, душой, сознанием. Человеку как «Я» противостоит мир других людей (других «Я»), мир отношений «Я» к «Я». Именно в этой связке, в мире взаимоотношений с другими людьми, в совместном бытии возникает сфера духа («мы»). Этот духовный мир не окружает нас как внешний мир, он находится между «Я» и «Я». В этом совместном мире конституируется и человеческая личность как носитель духа.
Эксцентричность человека задает способы реализации его существования, формы поведения и отношения к бытию. Исходя из человеческой сущности, Плесснер формулирует три антропологических закона, которые конкретизируют и базисную структуру, и человеческий способ бытия. Первый – закон естественной искусственности. Он предполагает, что человек как эксцентричное существо должен еще сделать себя тем, чем он уже является. Человеческое бытие – это осуществление. Человек есть лишь тогда, когда он осуществляет свое бытие. Искусственность человека в том, что он лишен равновесия, должен чем-то стать, испытать нужду в некоем искусственном дополнении. Этим и объясняется, согласно Плесснеру, то, что человек созидает мир искусственных вещей, т. е. культуру. В конечном счете он – существо историческое, творец и творение культуры.
Второй закон – закон опосредованной непосредственности. Он определяет способ, которым объекты даны человеку, и форму отношения человека к себе самому. Человеческое познавательное отношение к вещам всегда опосредовано его «Я». Мир дан человеку как содержание его сознания. Второй опосредованностью выступает способность человеческого «Я» рефлексировать акты сознания.
Как опосредованное существо человек экспрессивен; постоянно находится в пути, в состоянии порыва, так как в своем сознании с помощью «Я» он может, опережая себя самого, выдвигать разнообразные цели и задачи. Долго человеку находиться в спокойном состоянии не дано: он стоит там, где стоит, и одновременно не там, где стоит. Ему присуща вечная жажда иного и нового.
Третий закон – закон утопического места. Он объясняет, почему человеческое «Я» всегда пребывает в бесконечности, уходит в ничто, т. е. в некое «утопическое место» (место, которого нет). Как только люди достигают того, чего хотят, они одновременно выходят за пределы достигнутого. Отсюда становится понятной человеческая беспочвенность, порождающая сознание неукорененности своего бытия в мире, чувство беспокойства, поэтому свое существование человек может осознавать как случайное, однократное, единственное. В этом осознании, считает Плесснер, ядро, исток и корень религиозности, т. е. мыслей о необходимости существования чего-то абсолютно неслучайного, абсолютного бытия как основы мира. Эксцентричность предполагает «прыжок в веру», наличие абсолюта как компенсации человеческой сущности. Но и в религии человеческий дух не успокаивается. На то он и дух, чтобы всегда выводить человека на путь бесконечных поисков своей укорененности.
Таким образом, Плесснер в своей концепции не ссылается, подобно Шелеру, на некое метафизическое неизвестное в качестве объяснительной инстанции по отношению к антропологической реальности. Сердцевиной его концепции является идея эксцентрической позициональности человека, по своему содержанию во многом совпадающая с шелеровским представлением о человеке как о трансцендирующем существе. Различия между концепциями Шелера и Плесснера существуют лишь в объяснении источника человеческой духовности. В остальном – в том числе и в понимании триализма природы человека и человеческой сущности – их позиции достаточно близки.
Обнаруживаемая близость позиций основоположников философской антропологии, видимо, является не случайным фактом. В 1928 г. Шел ер и Плесснер одновременно пришли к выводу о создании новой основополагающей науки о человеке. Зарождение и становление философской антропологии – ответ на вызов времени, в основе которого лежал кризис человеческого бытия. В свою очередь, драматизм существования человека, по мнению мыслителей, был обусловлен кризисом идеи человека. Хотя антропологическую тематику можно обнаружить в этот период и в других философских школах и течениях, особое значение имеет именно немецкая философская антропология. Философы этого направления предполагали, что соединят конкретно-научное, предметное изучение различных сфер человеческой жизни с целостным философским ее постижением. Ими была сформулирована обширная программа философской антропологии: выделен предмет исследования (философская антропология – это учение о сущности и природе человека, онтологии и феноменологии его бытия); четко обозначены ее цели и задачи (классификация антропологических учений, разработка целостной концепции человека, познание тотальности человеческой жизни, критика методологических основ всей предшествующей антропологической традиции и т. д.); обоснованы собственные принципы постижения антропологической реальности (сущностного подхода, сравнения с животными, гуманитаризма, антропологической целостности, антропологической интерпретации отдельных явлений бытия человека, антропологической редукции). В то же время сами основоположники философской антропологии понимали, что их программа носит слишком всеобъемлющий характер. Как бы предчувствуя обвинения в ее невыполнимости, Плесснер специально формулирует дополнительный принцип «открытого вопроса», согласно которому человек настолько обширен, противоречив, разнообразен, что невозможно и не нужно формировать окончательный, общезначимый образ человека. Постижение человека в его сущности и во всем многообразии его проявлений достигается усилиями всего наличного богатства культуры. Кроме того, исчерпывающее познание человека недостижимо, ибо познаваемый объект носит бесконечный характер.
Тем не менее голоса о том, что программа философской антропологии осталась нереализованной, прозвучали: к такому мнению пришли последователи основателей этой школы. После выхода работ Шелера и Плесснера перед ними открывались две возможности: 1) идти по пути углубления проблематики, связанной со сравнением человека и животного с опорой на широкий биологический материал (у основоположников философско-антропологический анализ базировался в основном на данных физической антропологии и зоопсихологии); 2) привлекать новые предметные области знания, что привело бы к формированию самостоятельных, отдельных, до этого не существовавших, философски осмысленных региональных антропологий с использованием полученных в рамках философской антропологии идей и принципов.
Первая возможность была реализована немецким мыслителем Арнольдом Геленом (1904–1976). Основным его трудом является книга «Человек. Его природа и его положение в мире» (1940). Концепцию Гелена можно рассматривать как своеобразную попытку создать философско-биологическую антропологию. Сам он называет свою доктрину «совокупной наукой о человеке», которая одновременно носит философский и научный характер. Перед собой Гелен ставил две задачи: постижение человека как особого проекта природы и определение особенной человеческой природы. С привлечением широкого биологического материала Гелен обосновывает исключительность человеческого существа в животном мире, коренящуюся в его витальной предопределенности к деятельной активности. Это принципиальное отличие человека от животного философ устанавливает посредством сравнительного анализа их биологической организации. Определяющим человеческим свойством Гелен считает духовность. Последняя у немецкого мыслителя – не некое внежизненное и метафизическое начало, а реальная возможность самой витальной природы человека.
Основополагающей идеей концепции Гелена является понимание человека как биологически недостаточного существа, поскольку он крайне плохо оснащен инстинктами, «незавершен» и «незакреплен» в своей животно-биологической организации. Здесь философ солидаризируется с положением Ницше о человеке как «еще не определившемся животном». Биологическая недостаточность человеческого существа предопределяет его открытость к миру. Животное жестко и узкорегионально связано с определенной средой, человек же не имеет столь однозначно детерминирующей его среды, он обладает необычайной пластичностью, способностью к обучению. Биологическая неопределенность и открытость человека миру характеризуются Беленом как фундаментальные черты человеческого бытия. Выпавший из надежных форм животного существования, человек оказался перед необходимостью самоопределения. Чтобы сохранить себя, он должен создать новые условия, новую среду, пригодную для его жизни, он должен из себя самого сделать нечто такое, что способно развиваться в этой искусственной среде. Так, биологическая неспециализированность и «недостаточность» человека используются Беленом для обоснования его тезиса о человеке как деятельном существе.
Другая возможность развития идей Плесснера и Шелера получила более многостороннее воплощение. Одним из вариантов ее реализации является культурно-философская антропология, представленная концепциями немецких мыслителей Эриха Ротхакера, главной работой которого является «Философская антропология» (1966), и Михаэля Ландмана, автора еще одной «Философской антропологии» (1955). С их точки зрения, проблема соотношения витальнобиологических и духовных сфер, несмотря на многочисленные ссылки на деятельность как фактор, реализующий и демонстрирующий органическое единство этих сфер, не получила удовлетворительного теоретического обоснования.
Свои философско-антропологические учения Ротхакер и Ландман, так же как и их предшественники, разрабатывают, сравнивая человека с животным. Однако если в биофилософской антропологии Белена человек рассматривался и объяснялся преимущественно на биологическом материале, то в культурной антропологии сущность человека характеризуется на базе его духовности.
Ротхакер и Ландман принимают идею человека как биологически неспециализированного существа, вынужденного создавать внутренние и внешние структуры своего бытия. Человек способен дистанцированно относиться к внешнему миру и самому себе. Он – деятельное существо, но его деятельность опосредована миром культуры. Мир человеческого бытия – это мир культуры. Поэтому человека можно понять и объяснить как существо, формируемое культурой и формирующее культуру.
Учения Ротхакера и Ландмана свидетельствуют о повороте философской антропологии к культурной антропологии, точнее, к философии культуры, что является расширением содержательного пространства. С другой стороны, в этом повороте можно усмотреть и своеобразный отказ от целевой установки философской антропологии – от подчинения изучения индивидуальных и объективных условий и форм человеческого бытия задаче познания сущности человека.
Философская антропология послужила идейным источником возникновения и ряда философско-религиозных концепций человека, которые можно объединить в рамках философско-религиозной антропологии. Наиболее влиятельные доктрины этого типа разработаны такими мыслителями, как Г.Э. Хенгстенберг, В. Панненберг, Э. Корет и Ф. Хаммер.
Философско-религиозную антропологию необходимо отличать от религиозной антропологии, разрабатываемой в рамках естественной теологии той или иной христианской конфессии. Философско-религиозная антропология основывается на материале философии религии, ее теоретические схемы носят внеконфессиональный характер. Ее специфика состоит в поиске таких антропологических фактов, которые указывали бы на существование трансцендентной реальности и через призму последней получали бы свое объяснение.
Идеи философской антропологии – открытость человека миру, его эксцентрическая позициональность, биологическая неспециализированность и др. – претерпевают в религиозно-антропологическом контексте соответствующую переработку, чтобы стать основой философской концептуализации такого образа человека, который мог бы показать необходимость существования Бога. Главная задача философско-религиозной антропологии заключается в выведении идеи Бога из сущности человека как конкретной бытийной структуры.
Представители философско-религиозной антропологии полагают, что бытийная антропологическая структура включает три элемента – биофизический, психический, духовный. Духовность человека делает эту структуру открытой миру. Специфика человеческого отношения к миру проявляется в актах трансцендирования. В свою очередь, духовность, трансцендирование могут быть поняты лишь при обращении к трансцендентной реальности, их необходимо осмысливать в свете идеи Бога. Другими словами, мы должны в рамках философско-религиозной антропологии не человека объяснять через призму идеи Бога, а, наоборот, выводить Бога из идеи человека.
В 60-е гг. XX в. возникло новое течение в философской антропологии – экзистенциально-психоаналитическая антропология. Данное направление является интегративным и представляет собой сложный синтез идей психоанализа, фундаментальной онтологии М. Хайдеггера и философии экзистенциализма. Его главные представители – швейцарский философ и психиатр Л. Бинсвангер, американский философ-психоаналитик Р. Мэй, английский философ и психиатр Р. Лэйнг. Все они исходили из практических запросов психоаналитической терапии, которой пытались дать современное философско-антропологическое обоснование. Программные задачи нового направления были таковы: выяснение онтологических условий человеческого бытия в мире, определение факторов онтологической безопасности, осмысление человеческой сущности. Антропологи этой школы пришли к выводам, концептуально близким основоположениям философской антропологии: об открытости человека и его духовности. Сущность человека трактовалась как его способность к трансцендированию, как возможность самоутверждения, самосозидания. Все, что препятствует человеческой самореализации, оценивалось негативно и считалось онтологически небезопасным.
В конце 60-х и особенно в 70 е гг. в ряде коллективных и индивидуальных трудов стал подниматься вопрос о так называемой новой антропологии. В них отчетливо обозначалась тенденция к еще большему расширению конкретно-научной базы философско-антропологического толкования человека с привлечением данных этнографии, языкознания, социологии. Сфера антропологического анализа начала включать в себя дисциплины американской культурантропологии и английской социальной антропологии. Тем не менее дифференция и регионализация антропологического знания не поколебали статуса философской антропологии как теоретической и методологической основы всестороннего изучения самого интересного и загадочного феномена во Вселенной – человека.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК