Антропологический материализм русских революционных демократов
Русский человек на протяжении всей истории России жил в социально-контрастных, взрывных, трагедийных условиях. Поэтому русские бунты (бессмысленные и беспощадные, по определению Пушкина) и другие социальные потрясения стимулировали интерес к тому, что в XIX в. было названо революционным движением. Социальная философия радикальных мыслителей стремилась, сравнивая революционные события на Западе и в России, определить их причину, закономерности, исторические последствия. Вне этого становились невозможными традиционная философия истории, понимание смысла и назначения человека, а следовательно, и общества. Революционная традиция становится яркой закономерностью русского философствования, по-разному преломляясь и осмысляясь в консервативных и радикальных социальных интерпретациях (особенно в XIX в.). Если не путать, как это часто имеет место, радикальность и революционность, то собственно революционная традиция начинается с теоретических поисков А.Н. Радищева и наиболее последовательно продолжается в XIX в. так называемыми русскими революционными демократами (в историческом контексте их называли нигилистами, шестидесятниками и т. д.). Их творчество являлось в советской литературе приоритетным предметом изучения, результаты которого при всей их противоречивости были в целом внушительны и плодотворны. К недостаткам анализа феномена революционных демократов в советской историографии следует отнести апологетическое отношение к их творчеству, приводившее к расширительным толкованиям и предвзятым оценкам. Идеи русских революционных демократов анализировали с точки зрения их близости к марксизму, который часто трактовался догматически и прямолинейно. Однако очевидные огрехи советской историографии не дают оснований для распространенной сегодня нигилистической критики революционных демократов, отрицающей их историческое значение. Получается типичная для России парадоксальная ситуация: в советской историографии все сколь-нибудь значительные философские достижения относили к революционной традиции, хотя с годами рос и расширялся интерес к идеалистической и религиозной философии; сегодня же пытаются доказать, что именно в религиозно-идеалистической философии содержатся наиболее плодотворные идеи национальной философской традиции, а революционная материалистическая философия несостоятельна. Подобные крайности снимаются исторически корректным анализом. В русскую идею органически входят все типы философского освоения действительности (при всей противоречивости и даже противоположности их интенций). Поиски моноидеи, а следовательно, и монофилософии, которая только одна и выражает национальный характер философского постижения мира, всегда чреваты печальными последствиями, хотя, бесспорно, существуют национальные особенности философского развития.
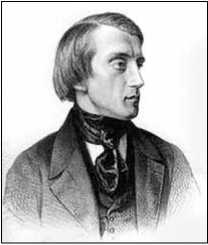
В.Г. Белинский
Виссарион Григорьевич Белинский (1811 1848) прожил короткую, но динамичную жизнь, полную борений и творчества. Будучи великим литературным критиком, он оказал громадное влияние на развитие русской философии, социологии, эстетики, литературы, т. е. на отечественную культуру в целом. Белинский фактически оказался родоначальником русской революционно-демократической идеологии, расчистил почву для радикальной философии своих последователей. Как отмечал Н.Г. Чернышевский, «целое поколение было воспитано им». Выходец из семьи провинциального военного врача, Белинский пытался учиться в Московском университете, но был отчислен из него «по причине слабого здоровья и ограниченных способностей».
Белинский был ведущим литературным сотрудником ряда известных журналов («Телескоп», «Московский наблюдатель», «Отечественные записки», «Современник»). Его программная статья «Литературные мечтания» в журнале «Телескоп» (1834) в одночасье сделала его знаменитым. В ней русский критик изложил свое романтическое и идеалистическое мировоззрение, в значительной степени связанное с философией Шеллинга.
В журнале «Московский наблюдатель» (1838) Белинский пропагандирует идеи гегелевской философии, причем в консервативном духе, как «примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни». Это была своеобразная попытка преодолеть абстрактно-романтические представления о жизни (справедливости, равенстве, свободе и т. д.), резко контрастировавшие с реалиями николаевской России. Опираясь на определенные идеи философии Гегеля, Белинский стремится философски осмыслить действительность, увидеть в ней воплощение определенного идеала, хотя осмысление это явно шло вразрез с его ранее сформировавшимися оценками русской жизни. Такой идеалистический подход позволял Белинскому сохранить веру в историческое развитие, увидеть смысл в реально происходящих событиях, убедиться, что разум, творящий мир, приводит (вернее, должен привести) к разумной действительности. Правда, для этого следовало объявить разумными и самодержавие, и крепостное право, и другие «прелести» русской жизни, но это не смущает русского мыслителя, поскольку он последовательно реализует воспринятую им гегелевскую концепцию. В этом был весь «неистовый Виссарион»: он всегда стремился идти до конца в своих выводах и обоснованиях. Правда, Белинский был готов и критически переосмыслить свои выводы, если появлялись новые основания для этого. Последние появились в связи с переездом Белинского в 1839 г. в Петербург и работой в журнале «Отечественные записки». Как писал Чернышевский, Петербург явно не удобен для идеалистических воззрений, мечтаний, ибо демонстрирует жизнь грубо, зримо, в материальной опредмеченности ее развития. К тому же бурные споры с Герценом поколебали многие воззрения Белинского эпохи примирения с действительностью. Русский мыслитель смело идет навстречу этой гнусной действительности, критический пересмотр сущности и закономерностей которой приводит его к демократизму и материализму. Именно годы работы в «Отечественных записках» и «Современнике» (1840–1848) стали самым плодотворным периодом творчества Белинского, новым этапом развития его мировоззрении – этапом «революционно-демократическим» и материалистическим.
Русский мыслитель фактически только начал новый путь, сформировал и обосновал новые подходы, позволяющие ему, по словам Герцена, осуществить оригинальное сочетание идей философских с революционными. Однако развить эти новые идеи Белинский не успел.
Говоря о философской позиции Белинского, не следует забывать, что у него фактически нет работ, посвященных чисто философским проблемам. Он прежде всего великий литературный критик, в значительной степени определявший идейные искания русской интеллигенции. Белинский сумел сформировать представление о литературе как о национальном самосознании и о писателе как о выразителе и двигателе общественной жизни. Эти и другие плодотворные для русского самосознания выводы Белинский развивал исходя из определенного мировоззрения, опираясь на определенные философские концепции. Тем самым он являлся не только пропагандистом определенных философских идей, но и творческой личностью, формирующей собственную философскую концепцию. Творчески переосмысляя теории немецкой классической философии (Шеллинг, Гегель, Фихте, Фейербах) и другие идейные влияния (например, французских просветителей и социалистов), русский мыслитель формирует собственную философскую позицию, которая в конце концов вылилась в интересное материалистическое и диалектическое, революционное и социалистическое учение.
Переход Белинского на позиции материализма был связан с критическим пересмотром философии Шеллинга и особенно Гегеля. При этом, расставаясь с идеализмом немецкого толка, Белинский не только фиксирует достижения и тупики подобного философствования, но и подчеркивает его непреходящее историческое значение. Белинский доказывает, что Гегель сделал из философии науку. Он был величайшим мыслителем нового мира прежде всего потому, что создал метод спекулятивного мышления. Именно этот метод при его последовательном использовании позволяет опровергнуть те из результатов его (Гегеля) философии, которые теперь недостаточны и не верны. Поэтому на основе гегелевского диалектического метода становится возможным создание подлинной философии не как знания таинственного и чуждого жизни, а как философской рефлексии самой жизни. Преодолевая «призраки трансцендентного идеализма», Белинский, не без влияния Л. Фейербаха, формулирует основы философии действительной жизни – материализма.
Реабилитированная русским мыслителем действительность рассматривается им как бесконечный материальный процесс, высшим звеном которого является человек. Причем все, даже высшая деятельность человека, опосредуется физиологией, вещественной природой. Белинский утверждает, что у человека самые отвлеченные умственные представления все-таки суть не что иное, как результат деятельности мозговых органов, которым присущи известные способности и качества. Зачастую философ подробно анализирует физиологические основы мышления как деятельности мозга, нервов и т. д.
Действительность исследуется Белинским с позиций определенно понятой природы человека, в которой духовную природу человека не должно отделять от физической природы как что-то особенное и независимое от нее. Тем самым русский мыслитель вплотную подходит к идее единства природы человека, которая лежит в основе антропологического принципа в философии.
Особое внимание уделял Белинский гносеологическим проблемам, которые опосредовали его литературную, критическую и эстетическую деятельность. Белинский обращает внимание на то, что философы давно доказали: ничего не может быть в уме, чего прежде не было в чувствах. Будучи твердо уверенным в выводах теории сенсуалистического материализма, русский мыслитель стремится диалектически осмыслить процесс познания. Прежде всего его интересуют диалектические закономерности взаимосвязи факта и его осмысления в гносеологической деятельности. Он полагает, что, с одной стороны, изучение фактов без философского взгляда на них ведет только к их знанию, но не к их разрешению. С другой стороны, игнорирование фактов и их интерпретация, насилующая факты для своего оправдания, как результат несостоятельности философского взгляда закономерно приводит к фантазиям и болтовне.
Белинский отстаивает единство эмпирического и рационального в контексте единой природы человека. Человек осваивает мир теоретически и практически, и этот единый процесс приводит к «владению предметом» только тогда, когда охватывает его с обеих сторон. Предпочтение Белинский отдает практической стороне, так как уверен, что именно в ней реализуется деятельная природа человека. В конце концов создать непротиворечивое учение о практическом Белинский не сумел, тем самым не доведя свои гносеологические представления до уровня четкой теории.
В таком же противоречивом ключе формируются его представления об истине. Белинский доказывает, что истина развивается исторически, а человеческий разум ограничен, поэтому только безграничный разум человечества овладевает истиной, но все постигнутое человечеством – этой идеальною личностью постигнуто ею через личности реальные. В этом процессе отсеивается все «ложное и ограниченное», накапливается и развивается все истинное и разумное.
Диалектические подходы определяют и взгляды Белинского на историческое развитие человечества. Правда, лейтмотивом этих рассуждений чаще всего выступают идеалистические представления о решающей роли духа, разума. По мнению русского критика, разрушение старого всегда совершается через появление новых идей. Именно идеи и их столкновение определяют закономерности истории (вплоть до классовой борьбы). Поэтому развитие общественной жизни опосредует изменение понятий и нравов. Это не исключает для Белинского справедливости реалистической констатации и интересов духовных, и выгод материальных, но объяснить, почему и как осуществляется эта связь, философ фактически не может. Он доказывает, что исходный пункт нравственного совершенствования – прежде всего материальная потребность, однако в результате это оказывается только свидетельством силы духа, который побеждает материю ее же собственными средствами. Считая, что сознание человека, его идеи определяют историческое развитие человечества, Белинский закономерно придавал основополагающее значение просвещению, в структуре которого особенно подчеркивал роль науки, искусства, литературы и журналистики. Именно литература, по мысли критика, совершенствует «понятия и нравы общества». Вместе с тем, руководствуясь «практическим» осмыслением общества, Белинский зачастую вскрывает важные закономерности его бытия (идея исторической необходимости, роль внутренних законов в развитии общественного организма, идея прогрессивного развития, сословная роль государства и т. д.). В этом же русле развивались революционные взгляды Белинского, его критика крепостничества, русского самодержавия. Он реалистически описывает маневры различных социальных групп в преддверии неизбежного освобождения крестьян и предостерегает: пока масса спит, но она проснется – быть худу. Отсюда его интерес к идеям революции и особенно социализма, который стал для русского философа идеей идей, альфою и омегою веры и знания. Белинский отстаивает социализм прежде всего потому, что это общество равных, основанное на «праве и доблести», избавленное от эксплуатации и т. д. – общество одной любви. Белинский видел в социализме идеал общественного развития, хотя и не представлял путей его реализации. Он, естественно, не понимал утопичности социалистических проектов, но мечта о будущем обществе равенства и любви была прекрасна, и она стимулировала идейные поиски русских радикальных деятелей.
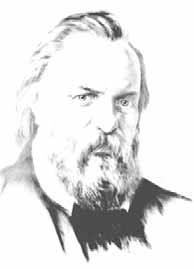
А. И. Герцен
Александр Иванович Герцен (1812 1870) родился в семье родовитого московского дворянина Яковлева и, будучи внебрачным ребенком, был наречен Герценом. Получив блестящее домашнее образование, Герцен учи тся в Московском университете. После окончания университета он неоднократно оказывался в ссылке (Вятка, Владимир), которая интенсифицировала процесс развития его мировоззрения. Значительной вехой в этом процессе оказалось изучение философии Гегеля. Герцен усиленно занимается философскими проблемами, результаты осмысления которых выливаются в два цикла статей: «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» (1842–1843). В этих работах он, преодолевая собственную увлеченность гегелевскими идеями, отстаивает материализм, связь философии с естествознанием, диалектику, понятую им как «алгебра революции», настаивает на союзе современной философии с социализмом.
В работах Герцена на первый план выходят социальные вопросы, решение которых определит характер новой русской жизни. Отсутствие возможностей решения «социальных вопросов» в самодержавной России, необходимость проверки собственных философских и социальных выводов достижениями Запада приводит Герцена в 1847 г. к отъезду в Европу. Он оказался непосредственным свидетелем европейской революции 1848 г., поражение которой привело его к идейному кризису. Герцен ставит под сомнение и возможности науки, и возможности народа, и социалистическую перспективу человечества. Отказавшись в 1850 г. вернуться в Россию, Герцен становится вечным изгнанником из пределов Российского государства. Он активно включается в революционное движение. Открыв в 1853 г. вольную русскую типографию в Лондоне, Герцен дал начало бесцензурной русской печати. Издаваемые им «Колокол» и «Полярная звезда» оказываются важным компонентом общественной борьбы в России. Свой философский и социальный пессимизм Герцен в конце концов преодолевает при помощи теории русского общинного социализма, которая, по его мнению, не только позволит снять негативные последствия западной модели капиталистического развития, но и откроет пути будущего социалистического развития всего человечества. В этом плане показателен последний цикл статей Герцена «Письма старому товарищу» (1869), который открывал новые возможности философского и социального осмысления действительности. Однако пойти по этому пути Герцен уже не успел. Мировоззренческий поиск Герцена не завершился философским синтезом, его социально-философская концепция осталась открытой системой. Испытав на себе плодотворное воздействие различных философских идей, Герцен, прежде всего исходя из гегелевского учения, стремится переработать идеализм и диалектику на материалистическом основании. Особенно ярко это проявляется в «Письмах об изучении природы», в которых русский мыслитель стремится диалектически исследовать природу, общество и познание, преодолевая метафизический материализм.
В центре его анализа – диалектическое единство бытия и мышления, предопределяющее решение других философских проблем. Исследуя проблему единства бытия и мышления на широком историко-философском материале, Герцен констатирует наличие двух принципиальных подходов к ее решению – идеалистического и материалистического. Идеалистическое объяснение природы кажется ему неубедительным, ибо он стремится опереться на естественные науки, которые по своим результатам имманентно материалистичны, так как воспроизводят разные стороны независимой окружающей нас жизни, не оставляя места для мистического зерна. Богоборческий пафос неофита материализма приводит его к полемически заостренному утверждению, что идеализм – не что иное, как схоластика протестантского мира. Стремление представить идеализм только как сферу чистой мысли, как схоластику, как искажение действительного хода вещей, явно прямолинейно и некорректно. Правда, Герцен подчеркивает историческое значение идеализма и особенно Гегеля, который зафиксировал традиционно сложившийся разрыв между бытием и мышлением, онтологией и гносеологией. Но Гегель преодолел этот разрыв идеалистически, логицировав все сущее: он понимал природу и историю как прикладную логику, а не логику как отвлеченную разумность природы и истории. Не приемлет Герцен и выводы метафизического материализма, прежде всего из-за непонимания метафизическим материализмом диалектики развития. Материалисты-метафизики, по его мнению, не касаются внутренней стороны процесса развития, а говорят только о внешнем процессе. Преодолевая эти подходы, Герцен стремится обосновать собственную философскую позицию, которую обозначает как реализм, тем самым дистанцируясь от существовавших в его время идеализма и материализма (прежде всего вульгарного материализма). Для русского мыслителя природа реальна, объективна, материально многообразна. Материя динамична, она есть процесс, взаимодействие, борьба бытия и небытия, вечное становление и развитие. С позиций органической теории Герцен исследует природу как целостный живой организм, имеющий свои закономерности существования и развития. Результатом органического развития природы является человек, причем смысл природы проясняется именно с появлением человека, без которого природа не заключает в себе всего смысла своего. Здесь заметно явное приближение к антропологическому принципу в философии, хотя человек в этом контексте характеризуется только мышлением, сознанием. Поэтому в результате история мышления – продолжение истории природы, а законы мышления – осознанные законы бытия. Интерес русского мыслителя концентрируется на исследовании гносеологического процесса. В этом контексте он основательно анализирует эмпиризм и рационализм, характеризуя их достижения и противоречия (причем эмпиризм отождествляется с материализмом и положительной наукой, а рационализм – с идеализмом, что явно упрощает содержание обоих понятий).
Постоянно противопоставляя эмпиризм и рационализм, Герцен стремится преодолеть их крайности своим реалистическим подходом, в котором они оказываются диалектически связанными: опыт и умозрение – две необходимые, истинные, действительные степени одного и того же знания. Процесс познания оказывается в конце концов процессом восхождения от эмпирического к умозрительному, от частного к общему. В этом движении действительность отражается в понятиях и категориях, в которых человеческий разум фиксирует законы, связи и отношения объективного мира. Диалектика процесса познания воспроизводит и фиксирует диалектику объективного мира, реализуясь во взаимосвязях логического и исторического, абсолютной и относительной истины и т. д. Однако процесс познания – не самоцель, а средство изменения жизни. Человеческое деяние определяет жизнь и возможности развития человечества. Философия истории становится в таком контексте главным звеном в философском освоении действительности. Следует подчеркнуть, что философия истории Герцена в основе своей была идеалистической. Русский мыслитель исходил из того, что история – прогрессивное продолжение животного развития, тем самым акцентируя внимание на универсальности всеобщего развития. Однако специфику человека, а следовательно, и человеческой истории, Герцен видел в разумности, осознанной направленности. Для него прогресс человека – прогресс содержания мысли. Именно разумность позволяет человеку преодолевать «животный сон» (А.И. Герцен) и самосовершенствоваться. Этот процесс стремится к полному соответствию разума и деятельности – тогда человек чувствует себя свободным. В этом контексте возникает неразрешимый для Герцена вопрос о причинах прогресса человеческого ума и знаний. Стремясь материалистически объяснить мышление, Герцен подчеркивал его материальную основу – физиологию; объясняя общественный прогресс развитием разума, мышления, он последнее опять же трактует физиологически, в основание социологии кладет физиологию. Правда, в конце жизни Герцен пытался увидеть особенность социологии именно в том, что она должна вырвать человека из анатомического театра, чтобы возвратить его истории. К сожалению, этот плодотворный подход оказался не развитым. Вместе с тем как проницательный мыслитель и непосредственный участник революционной борьбы Герцен зачастую высказывает глубокие и точные, продуктивные суждения об историческом развитии. Он много и интересно пишет об общественных противоречиях, о конфликте человека и среды, о конфликтах между различными общественными группами. На обширном материале философ показывает роль собственности в процессе исторического развития. Много и реалистично он рассуждает о роли трудящихся (крестьян в России, пролетариата в Европе) в истории, последовательно и ярко живописует политическую власть, тупики деспотизма и самодержавия. Подробно исследует Герцен роль социального переворота, который призван обеспечить счастливое будущее. Роль народных масс и личности анализируется им в диалектическом единстве. Будучи революционером, Герцен особое внимание в своих трудах уделял энергическому меньшинству, личностям, которые, отражая интересы угнетенных масс, становятся катализатором исторического развития. Революционная деятельность таких людей, по мнению Герцена, приближает социалистическое будущее человечества. Для русского мыслителя это будущее связано с теорией «русского социализма», который, будучи общинным (в отличие от социализма западноевропейского – капиталистического, антагонистического, индивидуалистического), может избавить общество от эксплуатации человека человеком и создать реальные основы равенства, счастья и прогресса.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) родился в патриархальной религиозной семье священника, которая во многом сформировала его личность. Чернышевский учился в Петербургском университете, но основные свои знания приобрел посредством самообразования. В круг его чтения в этот период входят труды философов Гегеля, Фейербаха, историков Гизо, Мишле, Шлоссера, английских экономистов, французских социалистов-утопистов. Пристально следит молодой студент за революционными событиями в Европе, особенно в связи с революцией 1848–1849 гг. Под влиянием этих и других событий его мировоззрение эволюционирует от патриархально-религиозных представлений к материалистическому и радикально революционному взгляду на действительность. В философской сфере это прежде всего эволюция от религиозно-идеалистических воззрений гегелевского толка к антропологическому материализму Фейербаха. Причем этот процесс опосредовался непосредственным влиянием русской антропологической школы во главе с Галичем, идеи которого продолжали и развивали непосредственные учителя Чернышевского Никитенко и Фишер. К моменту окончания университета Чернышевский считает себя последователем Фейербаха – представителя наиболее современной и радикальной в то время научной философской системы, сторонником атеизма, революции и социализма.

Н.Г. Чернышевский
Чернышевский становится во главе самого популярного и радикального русского журнала «Современник». В этом качестве он является властителем дум передовой России середины XIX в., выступая не только в качестве публициста, литературного критика, писателя, но и экономиста, философа, политика. Много сил Чернышевский отдает и революционной деятельности, мужественно отстаивая свои убеждения даже в тяжких условиях каторги и ссылки.
Лишенный права заниматься литературной деятельностью, Чернышевский не оставляет теоретических занятий (прежде всего философскими проблемами). Дошедшие до нас отдельные работы этого мыслителя свидетельствуют о том, что и в конце жизни он не отрекся от своих взглядов, приобретенных в плодотворные годы активной деятельности. Поздний Чернышевский остался последовательным сторонником материалистической философии, критически воспринимающим философские новации конца XIX в. (например, махизм). Отталкиваясь от традиций материалистической и идеалистической философии и перерабатывая их, Чернышевский разрабатывает собственное философское учение, в основе которого лежит антропологический принцип в философии, согласно которому исходной позицией философского освоения действительности является определенным образом понятая природа человека. Дуализм человеческой природы (материальное и духовное), по мнению Чернышевского, преформируется в монизм человеческого бытия, в действительный материальный монизм. Природа человека не должна разрываться на рассматриваемые в отрыве друг от друга материальные и духовные процессы, ибо человек един. Единство человеческой природы в ее материальности. Идея единства, раскрывающая подлинную природу человека, последовательно прилагается и к единству человека и других людей (общество), и к единству всего существующего (вселенной, природы). Такая методология философского освоения действительности требует изучения человека, затем общества, затем природы, чтобы в конце снова вернуться к человеку. Человек (точнее, его природа) выступает исходным и конечным пунктом философского освоения единого мира. Понимая под философией теорию решения самых общих вопросов науки, обыкновенно называемых метафизическими, вопросов об отношении духа к материи, свободе человеческой воли, бессмертии души и т. д., Чернышевский в силу антропологической направленности своего философствования и потребностей конкретной политической борьбы прежде всего исследует человека и реальную сферу его существования – общество. Единство общества – в единстве законов, действующих в нем, законов, воспроизводящих материальные основы общественного развития. Поэтому человек как общественное существо для Чернышевского – прежде всего человек трудящийся. Трудовая деятельность приводит к концентрации богатства, сословной поляризации, а затем и к классовой борьбе. В этом процессе простолюдин всегда оказывается в проигрыше, тогда как будущее должно принадлежать ему. Чернышевский тем самым анализирует историю с точки зрения потребностей и средств к удовлетворению их, т. е. убедительно доказывает ее экономический характер, обусловленный тем, что экономические условия составляют коренную причину почти всех явлений. Материальный фактор и классовая борьба становятся закономерностями общественного развития, а революция – механизмом изменения общества. Правда, Чернышевский никогда не считал революции единственным двигателем исторического прогресса, всегда подчеркивал сложную диалектику истории, ее многофакторность. Поскольку в основе истории лежит деятельность людей труда, естественно ее движущей силой являются народные массы (в России крестьяне, в Европе пролетариат). Личность в таком контексте не более чем служительница времени и исторической необходимости. Она, как правило, выражает определенные интересы, чаще всего господствующих классов. Поэтому и наука, и политика, и вся иная деятельность в обществе партийны. Применительно к философии это означает, что философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем. Себя и своих единомышленников русский мыслитель относит к партии простолюдинов, во имя которых и должно быть построено будущее общество, лишенное эксплуатации. Это социалистическое общество, путь к которому мыслитель разрабатывал в теории «русского социализма». Однако подобное понимание общественного развития можно экстраполировать из контекста разных работ Чернышевского, зачастую даже непосредственно не посвященных социальным проблемам. Там же, где Чернышевский осмысляет эти проблемы теоретически, вырисовывается иная картина. Чаще всего русский мыслитель апеллирует к неизменной природе человека, понимаемой натуралистически. Тогда прогресс в развитии истории оказывается результатом умственного развития, его суть состоит в успехах и развитии знаний. Основная сила прогресса – наука. Более того, хотя политика и промышленность, по мнению русского мыслителя, шумно движутся на первом плане в истории, ее подлинной движущей силой оказываются знания, которые определяют в человеческой жизни буквально все. Очевидно, что разработать монистическую теорию общества Чернышевскому не удалось: идеалистический подход к истории контрастировал с реалистически-материалистическим анализом конкретных исторических ситуаций и закономерностей.
Более последовательным Чернышевский был в исследовании природы. В центре его анализа – материальное единство мира, который есть бесконечно развивающаяся материя. Понимая под материей «одинаковое в материальных предметах», он видит в разнообразии природы «разнообразные комбинации материи». Движущаяся материя проходит качественные стадии от минерала до человека, находящиеся в органическом единстве и различии. Изменение, движение, развитие – имманентное свойство природы, это сама природа, рассматриваемая со стороны своего действования. Общими законами природного развития являются тяготение, причинность, поступательность, полярность, борьба противоположностей. Тем самым природа и в значительной степени общество анализируются диалектически. Стремление Чернышевского переработать диалектику на материалистической основе составляет сильную и плодотворную сторону его творчества, хотя осуществить этот синтез он так и не сумел, Местами русский мыслитель упрощает сложность процесса, прямолинейно и догматично трактуя диалектичность развития, явно преувеличивая роль количественных изменений и недооценивая качественную поляризацию действительности: между камнем и растением, травой и дубом, сознанием животного и человека для Чернышевского фактически существует только количественная разница.
Иногда его рассуждениям свойственны метафизическая прямолинейность, механистические и позитивистские упрощения. Правда, не следует забывать, что большую часть жизни Чернышевский сотрудничал в подцензурной печати и, будучи публицистом, стремился к доходчивости, часто адаптировал свои аргументы к уровню знаний адресатов. Зачастую на первый план философ выдвигал прагматические надобности, а не точность и последовательность, верифицируемость научного анализа. Он неоднократно подчеркивал, что еще не наступило время, когда философские проблемы окажутся в центре русского самосознания. Однако Чернышевский много сделал для скорейшего наступления этого времени. Отталкиваясь от лучших достижений европейской и русской философской мысли и перерабатывая их, он создал оригинальную систему антропологического материализма, явившуюся плодотворным основанием для будущих философских поисков. Чернышевский в течение долгого времени был властителем дум нескольких поколений русских радикальных деятелей. Энциклопедизм его познаний стимулировал общественное развитие России. Его идейное наследие и сегодня вызывает интерес, являясь предметом изучения и борьбы разных течений русской общественной мысли.
Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868) ярчайшая фигура переломного времени, рубежом которого стали революционная ситуация 1859–1861 гг. и освобождение крестьян.
Писарев находится как бы на стыке теоретического народничества 40—50-х гг., представленного Герценом и Чернышевским, и практического народничества 70—80-х гг. (Лавров, Бакунин, Михайловский). Писарев – один из самых известных представителей русского нигилизма со всеми его достижениями, противоречиями и тупиками. Именно с него начинается снижение философско-теоретического уровня русского радикального движения, приведшее в конце концов к теоретическому нигилизму и теории малых дел. Одновременно Писарев – один из инициаторов процесса пересмотра вех, происходившего в эпоху великих реформ. В силу этих и других причин его наследие оказалось внутренне противоречивым, полемически заостренным, вызывающим споры и по сей день.

Д.И. Писарев
Писарев прожил короткую, но бурную жизнь. После окончания Петербургского университета и защиты кандидатской диссертации «Аполлоний Тианский» Писарев работает в журнале «Русское слово», который становится влиятельным изданием пореформенного периода и идейным рупором русского нигилизма. В одной из первых программных статей «Схоластика XIX века» Писарев солидаризируется с идеями Чернышевского, поддерживает его борьбу с партией отживших, одновременно формулируя платформу нигилизма в ее наиболее радикальном варианте: «… что нужно разбить, то нужно разбить; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть». Такая нигилистическая бесшабашность закономерно приводила ко многим издержкам. Писарев идейно эволюционировал на протяжении всей своей жизни, парадоксальностью своих суждений предопределяя их взаимоисключающие интерпретации. Хлестко и остро писал он об общественных проблемах, защищая трудящихся и умственных пролетариев, призывая (чаще всего на эзоповом языке) к изменению политического и общественного строя России, за что арестовывался и заключался в Петропавловскую крепость. Интересно, что, находясь в одиночной камере, Писарев продолжал оставаться активным участником общественной борьбы, систематически публикуя в подцензурной печати свои статьи.
Творчество Писарева было прервано на взлете. Поэтому трудно сказать, какой характер приобрело бы его мировоззрение, проживи он долгую жизнь. Свою философскую позицию русский мыслитель связывал с теорией реализма, т. е. прежде всего с правдивым реалистическим осмыслением действительности с позиций дела, фактически преодолевающим крайности построенных на «битье стекол» нигилистических аргументаций.
Поскольку русского мыслителя прежде всего интересует человек жизни, человек дела, он исследует историю с позиций реальной жизни такого человека. Определяющим фактором человеческой жизни в статье Писарева «Очерки из истории труда» оказывается труд. Трудовая деятельность и механизмы присвоения результатов труда приводят к социальному расслоению, поляризации владеющего всеми средствами труда меньшинства и трудящегося большинства.
Плоды цивилизации в конечном счете оказываются привилегией немногих. Закономерным результатом такого положения становится борьба между трудом и капиталом, антагонизм которых может быть разрешен только истинной цивилизацией – социализмом. Но для этого необходим решительный поворот в течении общественной и экономической жизни, связанный с пробуждением масс, вне деятельности которых неосуществим общественный прогресс. Однако исторический прогресс, смена цивилизаций, революции и т. д. определяются человеческими знаниями и степенью понимания людьми своего положения. Уровень образования становится первопричиной исторического развития, а возможности соединения знания и труда определяют практические результаты истории человечества. Правда, это вряд ли позволит выйти из порочного круга, в котором бедность и эксплуатация предопределяют невежество, а оно вновь санкционирует неравенство и эксплуатацию. Писарев снимает это противоречие апелляцией к усвоению положительных знаний, умственному прогрессу и просвещению. Отсюда проистекает явное преувеличение русским мыслителем общественной роли естественных наук, которые воссоздают реальную картину природы и общества. Философия, исследуя природу и общество, исходит из действительно существующих реальных, видимых и осязаемых явлений или свойств предметов (природа) и «реальных, видимых и осязаемых потребностей человеческого организма» (общество). Движущей силой освоения природы должна быть польза, практическая результативность. Тогда актуальной становится задача экономии умственных сил, которая сосредоточивает умственный капитал, а следовательно, интенсифицирует результаты общественного развития. Носителем «умственных сил» и образования является, по Писареву, передовая интеллигенция, «мыслящий пролетариат», который может разрешить вопрос о голодных и раздетых людях. Тем самым, в отличие, например, от Чернышевского, Писарев считает движущей силой истории не народные массы, а личность. Начинается процесс субъективизации истории, наглядно проявившийся в теоретических выводах народничества 70-80-х гг. Магистральным направлением деятельности мыслящего пролетариата Писарев считал пропаганду естественных наук, которыми должны овладевать массы, ибо главное зло в человечестве – невежество, против этого зла есть только одно лекарство – наука. Сам Писарев много сделал для пропаганды достижений науки, особенно в своих статьях «Прогресс в мире животных и растений» и других, пропагандируя, в частности, эволюционное учение Дарвина.
Будучи сторонником материалистического взгляда на мир, русский мыслитель последовательно критикует идеализм, зачастую не избегая упрощений и заблуждений вульгарного материализма (Фогт, Молешотт, Бюхнер) и позитивизма (О. Конт). Это связано с его увлечением естественными науками, которые органически влекли к эмпиризму и утилитаризму. В свою очередь это предопределяло господство стихийных форм интерпретации действительности. Вообще к диалектике Писарев относился подозрительно, видя в ней схоластику и идеализм. В целом философская позиция Писарева была противоречивой и бессистемной, однако она оказала большое влияние на развитие русской философии во второй половине XIX в.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК