Философия Иммануила Канта
Иммануил Кант (1724–1804) – ученый и философ, является родоначальником немецкой классической философии. Свою долгую восьмидесятилетнюю жизнь Кант безвыездно провел в родном Кенигсберге в Восточной Пруссии. Отец его был небогатым ремесленником. Будущий мыслитель получил образование в протестантской школе. Закончив богословский факультет Кенигсбергского университета, он несколько лет проработал домашним учителем в богатых семействах, затем до конца своих дней занимался научно-философской и преподавательской деятельностью в стенах университета родного города: в 1755–1770 гг. был доцентом, а в 1770–1796 г. – профессором. Его жизнь была бедна внешними событиями, но зато отличалась поразительным внутренним богатством. Отличаясь пунктуальностью, он достиг высочайшей упорядоченности в личной и общественной жизни (местные жители могли сверять свои часы по ежедневным прогулкам, на которые философ отправлялся в одно и то же время). С детства И. Кант отличался слабым здоровьем. Однако благодаря строгой самодисциплине и аскетическому образу жизни он дожил до глубокой старости.
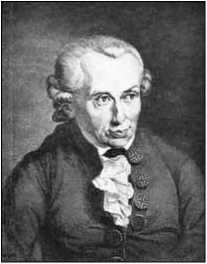
Иммануил Кант
В интеллектуальном развитии Канта выделяют два периода: до-критический (примерно до 1770 г.) и критический. Основными работами первого периода являются «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755), «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1764). Главные произведения критического периода – «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790).
Докритический период. Данное название не означает, что в этот период Кант не обращается к критике определенных идей и взглядов. Напротив, он всегда стремился к критическому освоению самого различного мыслительного материала. Для Канта характерно серьезное отношение к любому авторитету в науке и в философии, о чем свидетельствует одна из первых его печатных работ – «Мысли об истинной оценке живых сил» (1749), написанная еще в студенческие годы. В ней Кант ставит вопрос: можно ли критиковать великих ученых, великих философов? И приходит к выводу, что можно, если у исследователя есть аргументы, достойные аргументов оппонента[190].
В первый период творчества интересы Канта носят преимущественно естественнонаучный и натурфилософский характер: он выступает прежде всего как крупный ученый – астроном, физик и т. д. В 1754 г. Кант публикует статью, на конкурсную тему Прусской академии наук: «Исследование вопроса, претерпела ли Земля в своем вращении вокруг оси, благодаря которому происходит смена дня и ночи, некоторые изменения со времени своего возникновения». В ней он приходит к выводу о том, что Земля в своем вращении испытывает замедление, вызываемое приливным трением вод Мирового океана. Суть идеи Канта в том, что под воздействием Луны морские приливы перемещаются с востока на запад, т. е. в направлении, противоположном вращению Земли, и тормозят его. В этом же году мыслитель публикует еще одну статью – «Вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения». Процесс старения Земли не вызывает у Канта сомнений. Все сущее возникает, совершенствуется, затем идет навстречу гибели. Земля, конечно, не составляет исключения. Эти статьи были прелюдией к его главному трактату до-критического периода.
В 1755 г. появился кантовский трактат «Всеобщая естественная история и теория неба». Книга вышла анонимно, хотя Кант не делал из своего авторства особого секрета. В ней он обосновывал гипотезу о естественном происхождении Солнечной системы (она вошла в науку как гипотеза Канта) – догадки о развитии и гибели звездных миров. До Канта господствовал взгляд, согласно которому природа не имеет истории во времени. В XVII в. естествоиспытатели (в том числе Галилей и Ньютон) были убеждены в Божественном происхождении небесных светил. Основной же смысл книги Канта в том, чтобы показать, как под воздействием чисто механических причин из первоначального хаоса материальных частиц могла образоваться наша Солнечная система. Его космогоническая гипотеза исходит из принципа: «Дайте мне материю, и я построю из нее мир, т. е. дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен возникнуть мир»[191].
Ранний Кант – деист: он отрицает за Богом роль зодчего Вселенной и видит в нем всего лишь творца того хаотичного вещества, из которого по законам механики возникло современное мироздание. Происхождение и творение мира – дело не мгновения, а вечности. Оно однажды началось, но никогда не прекратится. Кантовская Вселенная – расширяющаяся: на ее периферии все время возникают новые миры, а старые гибнут. Кант предсказывает гибель и нашей планетной системы. Современная наука, конечно, не приемлет многих положений космогонической гипотезы Канта. Но главная его философская идея – историзм, идея развития – остается незыблемой.
Естественнонаучные проблемы еще долгое время будут доминировать в духовном мире Канта. Но наряду с ними проявляется и интерес к философии. В докритический период философские интересы мыслителя отражены в ряде его работ: «Новое освещение первых принципов метафизического познания», «Применение связанной с геометрией метафизики в философии природы», «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин», «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» и др.
В этих публикациях философские поиски Канта сосредоточены на следующих проблемах:
– обоснование необходимости метафизики для понимания первопричин наблюдаемых явлений и познания их законов;
– критика некоторых положений формальной логики;
– выяснение возможности очевидных доказательств богословских и моральных истин;
– изучение мира человеческих чувств через призму двух категорий – прекрасного и возвышенного и т. д.
Необходимо отметить роль, которую сыграли в творческой биографии Канта, Ж.Ж. Руссо и Д. Юм. Они, по словам философа, помогли ему пробудиться от «догматического сна»[192]. Если через призму законов механики Ньютона молодой мыслитель пытался проникнуть в загадки беспредельного мира, то парадоксы Руссо помогли ему заглянуть в тайники человеческой души. Английский философ Юм повлиял на теоретико-познавательные поиски Канта, побудил его к пересмотру ряда концептуальных метафизических положений.
В черновых записях, относящихся к периоду работы над «Наблюдениями», Кант (вслед за Руссо) подходит к проблеме отчуждения, т. е. превращения результатов деятельности человека в нечто чуждое и враждебное ему. На примере науки Кант показывает, как благо может превратиться в зло. «Вред, приносимый наукой людям, состоит… в том, что огромное большинство тех, кто хочет в ней себя проявить, достигает не усовершенствования рассудка, а только его извращения, не говоря уже о том, что для большинства наука служит лишь орудием для удовлетворения тщеславия»[193]. По мнению Канта, наука в современном ему обществе заражена двумя болезнями. Имя одной – узость горизонта, однобокость мышления, имя другой – отсутствие достойной цели. Наука нуждается в верховном философском надзоре. Ученый становится своего рода одноглазым чудовищем, если у него отсутствует философский глаз. Это опасное уродство состоит в том, что человек замыкается в какой-то одной области знаний. Такого ученого (одноглазого, по образной характеристике Канта) можно назвать циклопом. Он – эгоист науки, и ему нужен еще один глаз, чтобы посмотреть на вещи с точки зрения других людей. На этом основывается гуманизация науки, т. е. человечность оценок. «Второй глаз, – считает Кант, – это самопознание человеческого разума, без чего у нас нет мерила величия наших знаний»[194]. Перед собой Кант ставит задачу преодоления пороков современной ему науки. «Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та… из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком»[195]. Это признание имеет для мыслителя принципиальную важность. Он навсегда расстается с ученой спесью просветителя, любующегося своим многознанием, боготворящего всесилие науки. Ценность знания определена нравственной ориентацией; та наука, которой хочет посвятить себя философ, – наука людей. Отныне в центре философских исканий Канта – проблема человека, но к ней мыслитель в полном ее объеме сможет обратиться лишь на склоне лет. Это объясняется тем, что для Канта вопрос «Что есть человек?» не носит беспредпосылочного характера, к проблеме человека ведет тернистый и долгий путь философских исканий.
В этот же период у мыслителя складывается, по его словам, «неудачный роман» с метафизикой, длившийся всю жизнь. Он волею судеб «влюблен в метафизику», хотя она редко выказывает ему свое «благоволение»[196]. Работая в университете, Кант наряду с другими курсами читал и курс метафизики, его мучили «проклятые» метафизические вопросы – о сущности мира, Бога, души. Но чем дальше, тем яснее становилось, что ответы на них нельзя получить умозрительным путем. Поэтому Кант мечтает о перевоспитании «своей возлюбленной», он хочет видеть ее «спутницей мудрости», очерчивающей границы познания.
Критический период. Трансцендентализм философии И. Канта. В 1770 г. выходит работа Канта «О формах и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира». Она знаменует начало критического периода его творчества. В ней мыслитель затрагивает те проблемы, которые станут центральными во всей его философии. Но поставить проблемы недостаточно. В одном из писем в 1772 г. он пишет о задуманной книге «Границы чувственности и рассудка». Дату того письма (21 февраля 1772 г.) принято считать началом работы над главным философским произведением Канта. Будущая книга должна дать «ключ к тайне всей метафизики». Чтобы ее написать, Канту понадобилось 9 лет. Лишь в мае 1781 г. «Критика чистого разума» увидела свет. Прежде чем познакомиться с фундаментальными идеями книги Канта, необходимо раскрыть суть критического периода.
Второй период творчества Канта назван «критическим» не только потому, что названия основных произведений, созданных на протяжении этого периода, начинаются словом «Критика». Дело в другом: Кант поставил перед собой задачу провести критический анализ всей предшествующей ему философии, противопоставить критический подход при оценке познавательных возможностей и способностей человека господствовавшему до него догматическому подходу. Кант осуществил коренной переворот в постановке и решении философских проблем. В средневековой философии и философии эпохи Возрождения ядром философских систем являлась онтология – учение о бытии. Философы Нового времени перенесли основной акцент на вопросы гносеологии. Однако в центральной проблеме гносеологии – взаимодействии субъекта и объекта – до-кантовскую философию преимущественно интересовал анализ объекта познания. Кант же делает предметом философии специфику познающего субъекта, уяснение возможностей и границ познавательных способностей человека. Сам Кант сравнивал свой подход с революцией, совершенной Н. Коперником. Своеобразие переворота, произведенного Кантом, состояло в том, что мыслитель предложил центр рассмотрения перенести (подобно тому, как Н. Коперник переместил центр мира) с того, «что познается» (предмет познания), на то, «с помощью чего и как познается» (познавательные способности человека). В результате кантовского переворота в философии изучение познавательных способностей становится важнейшей философской темой. Таким образом, гносеология, или учение о познании, оказывается отправным пунктом кантовской системы философии. Для прояснения исходного пункта философии мыслителя необходимо вспомнить и исторический спор рационалистов и эмпириков. Кант признал справедливость суждений эмпириков, утверждающих опытную природу нашего знания, но отклонил их идею о разуме как о «чистой доске», на которой лишь природа оставляет свои знаки. Идея рационалистов о существовании врожденных идей также не была им принята, хотя в ней он усмотрел некоторый плодотворный смысл. Канту удалось осуществить синтез двух противоположных позиций, удержав в этом синтезе истину каждой из них и отклонив то, что, на его взгляд, являлось ложным.
Основные концептуальные положения «Критики чистого разума» в сокращенном виде могут быть представлены следующим образом.
1. «Критика» для Канта – это уяснение возможностей и границ познавательных способностей человека. Одной из таких способностей является то, что у мыслителя получило название «чистого разума». Чистый разум – это способность к теоретическому, т. е. научному мышлению. Этим он отличен от практического разума – способности человека строить отношения с другими людьми, определенным образом вести себя. Согласно Канту, как теоретический, так и практический разум имеет свои возможности и пределы, в рамках которых они только и могут быть признаны компетентными. Они не только взаимно ограничивают друг друга, но и заключают ограничения внутри себя. Последнее означает, что разум, как и все другие познавательные способности человека, имеет свою внутреннюю структуру и закономерности функционирования. Следовательно, эти способности могут быть изучены строго научно, а гносеология должна быть построена как точная наука, на манер математического естествознания. Решая задачу создания гносеологии, отвечающей критериям научности, Кант поступал в соответствии с духом эпохи. Одной из особенностей новоевропейской культуры является такое понимание научного знания, которое исключает из науки всякий субъективный произвол и делает ее общеобязательным, всеобщим и необходимым знанием. Заложенный Декартом взгляд на общеобязательный и в этом смысле «безличный» характер научного познания получил у Канта дальнейшее развитие. Мыслитель переносит подход, примененный до него в области естествознания, на ту сферу, которая издавна была прерогативой метафизики.
2. Кантовская философия, по определению самого автора, есть философия трансцендентальная. Вл. Соловьев по этому поводу писал: «Трансцендентальное значение принадлежит всем априорным условиям опыта (функциям воззрения и рассудка, которые не вытекают из опыта, а определяют его), а также идеям в их истинном смысле как принципам и постулатам разума; наука, изучающая эти априорные основы всего существующего, есть трансцендентальная философия, или (истинная) метафизика, – так именно обозначал Кант свою философию…»[197]. Трансцендентальная философия должна быть противопоставлена философии трансцендентной, т. е. «запредельной», – философии, берущейся рассуждать о вещах, которые никак не могут быть представлены ни в чувственности, ни в рассудке, ни в разуме, а являются предметом веры. Предметы же веры необходимо вынести за скобки научной философии. Вера – это сугубо личное дело, она у каждого своя. Точно также у каждого свой опыт. Поэтому опытное знание, как и объекты веры, не могут быть предметом научной, т. е. общезначимой, философии. Следовательно, статусом универсального, общечеловеческого, не зависящего от индивидуальных различий людей обладает то, что не является предметом веры, с одной стороны, и то, что не связано непосредственно с опытом, – с другой.
Именно эта сфера, лежащая между верой и опытом, может быть исследована научно. Она есть предмет трансцендентальной философии. Выводы такой философии могут быть восприняты всеми людьми так же, как ими воспринимаются истины естествознания.
3. Кант считает, что познающий субъект определяет способ познания и контролирует предмет знания. В философии Нового времени до Канта субъективное начало рассматривалось как помеха на пути к истинному знанию, как то, что искажает и затемняет действительное положение вещей (например, бэконовское учение об идолах). У мыслителя возникает задача: установить различие между субъективным и объективным элементами знания в самом субъекте, на его различных уровнях. Кант переосмысливает само понятие субъекта и впервые различает в самом субъекте два уровня: эмпирический (опытный) и трансцендентальный (находящийся по ту сторону опыта).
К эмпирическому уровню он относит индивидуально-психологические особенности человека, к трансцендентальному – надындивидуальное начало в человеке, т. е. всеобщие определения человека как такового, человека как представителя человечества.
4. Одна из основных проблем «Критики…» – как возможно достоверное научное знание. Эта проблема конкретизируется у Канта в три частные проблемы: как возможна математика, как возможна физика (естествознание) и как возможна метафизика (философия). Ко всем этим областям знания Кант применяет различный подход. Он уверен в научном характере математики и естествознания. Кант считает, что достоверное знание носит объективный, т. е. всеобщий и необходимый, характер.
Данные особенности научного знания, считает Кант, обусловлены структурой трансцендентального субъекта, его надындивидуальными качествами и свойствами («как человека вообще»). Познающему субъекту по природе присущи некоторые доопытные формы подхода к действительности: формы наглядного созерцания или чувственности (пространство и время) и формы рассудка. Интересна аргументация Канта по поводу априорности форм наглядного созерцания. Мыслитель задается вопросом: как возникает знание о мире. По мнению Канта, его источником выступает чувственный опыт, формирующийся из чувственных восприятий, которые являются результатом воздействия «вещей самих по себе» на нашу чувствительность. Чувственный опыт дает бесформенный, хаотичный материал, воспринимаемый нами благодаря априорным формам чувственности. В чем же их априорность? Органы чувств дают нам образы единичных вещей. Эти образы возникают как результат непосредственного контакта наших рецепторов с внешними предметами. Посмотрим, все ли в содержании чувственного образа обязано контакту с внешним миром. Мыслитель утверждает, что если исключить из образа все его отдельные свойства (цвет, форму, запах, вкус и т. д.), то кое-что все-таки останется. Останется пространство и время. Действительно, всякое впечатление воспринимается нами как определенным образом расположенное во времени и в пространстве, сами же по себе пространство и время не являются предметами впечатлений, а скорее условиями, обеспечивающими возможность располагать впечатления определенным образом.
Пространство, согласно Канту, не может быть чувственным образом, результатом внешнего опыта, скорее наоборот, всякий чувственный опыт реализуется в пространстве. Там, где нет пространства, вообще нельзя говорить о внешнем опыте. Чтобы мы могли образовать чувственный образ, например дома, стола и т. д., мы должны иметь представление о пространстве как о предварительном условии любого чувственного образа. Следовательно, представление о пространстве имеет неэмпирическое (неопытное) происхождение. Мы можем вообразить себе пространство без предметов, но мы никогда не сможем представить себе предмет, который не был бы расположен определенным образом в пространстве. Аналогичные рассуждения приводит Кант и относительно времени. Чем же являются пространство и время, если выяснилось, что представления о них носят неэмпирический характер? Они не относятся к внешнему миру, иначе они постигались бы эмпирическим опытным путем, обычным для предметов этого мира. Но если они не относятся к миру внешнему, тогда они принадлежат к миру внутреннему, являются свойствами не объекта, а субъекта. Этот вывод и делает Кант. Пространство и время – не явления объективного мира, а формы упорядочивания впечатлений, которыми обладает субъект. Благодаря наличию таких предварительных (априорных) форм организации чувственного опыта впечатления, получаемые нами, не сливаются в неразличимый хаос, а располагаются в определенном порядке и последовательности. Этот порядок мы и называем пространством, а последовательность – временем. Таким образом, хотя все чувственные впечатления и имеют своим источником внешнее воздействие, их организация в определенную «картину», образ мира подчиняется закону функционирования субъективных способностей человека. Содержание образа оказывается эмпирическим по происхождению, но его форма (его способ организации) выступает как априорная и субъективная. Неожиданный аспект в кантовской доктрине a priori был выявлен К. Лоренцом – выдающимся австрийским ученым XX в., основоположником науки о поведении животных (этологии). Лоренц убежден, что основные идеи этой доктрины служат серьезным методологическим подспорьем для естествоиспытателя. Одной из таких идей он считает «великое и фундаментальное открытие Канта, суть которого в том, что человеческое мышление и восприятие обладают определенными функциональными структурами до всякого индивидуального опыта». Именно эта идея является принципиально важной для исследования миро-ориентации не только человека, но и, как утверждает Лоренц, всех живых существ. Ученый считает, что живое существо активно строит свое отношение с окружающей средой на основе генетически предопределенной программы. Тот, кто знаком с врожденными реакциями живых организмов, согласится с предположением, что априорная структура организации чувственного опыта существует в силу наследственной дифференциации[198].
Надо иметь в виду и тот факт, что современная теория познания и методология науки вынуждены признать существование предпосылочных структур научно-познавательной деятельности. Наука и шире – познание и сознание вообще – не могут не опираться на некоторые отправные предпосылки, идеализации, модели действительности, не сводимые ни к эмпирическим, ни к логическим истинам. Это в определенном смысле означает, что мы должны признать правоту концепции a priori Канта[199]. Априорные формы чувственности – пространство и время – создают предпосылки истинности математического знания. Мы воспринимаем мир не хаотически, а в определенной временной упорядоченности. Именно это и рождает способность к счету, а вместе с тем и возможность арифметики. Аналогичным образом пространственная упорядоченность нашего восприятия есть условие и гарантия истин геометрии. Следовательно, пространство и время как формы упорядочения мира суть условия возможности математики как строгой науки.
Доопытные формы чувственности создают предпосылки достоверности математического знания. Реализация этих предпосылок связана с деятельностью рассудка и его априорных форм. Рассудок – это мышление, оперирующее понятиями и категориями. Категории – предельно общие понятия, как бы скелет познания; только потому, что они существуют, возможно «чистое» естествознание. Кант в этой связи разрабатывает систему категорий рассудка:
1) категории количества: единство, множество, всеполнота;
2) категории качества: реальность, отрицание, ограничение;
3) категории отношения: субстанция и акциденция, причинность и зависимость, общение (взаимодействие между действующим и подвергающимся действию);
4) категории модальности: возможность – невозможность, бытие – небытие, необходимость – случайность.
Необходимо обратить внимание на трехчленное деление каждой группы категорий. Здесь явно проглядывает будущая гегелевская триада – тезис, антитезис, синтез. Некоторые категории взяты в единстве со своими противоположностями. Это еще один шаг к Гегелю. Каждая категория дает производные понятия меньшей общности. Категория причинности, например, дополняется понятиями силы, действия, страдания; категория общения – понятиями присутствия, противодействия и т. д. Кант говорит, что при желании он мог бы представить во всей полноте «родословное древо чистого рассудка», но он не делает этого, чтобы не отвлекаться; его задача – изложить не полноту системы, а полноту ее принципов. Рассудок, по Канту, выполняет функцию подведения многообразного чувственного материала, организованного с помощью форм созерцания, под единство понятий и категорий и, таким образом, обусловливает объективность знания. Но что же создает возможность для такой деятельности рассудка? Что объединяет все понятия и категории в целостность, что приводит их в действие? Кант отвечает на эти вопросы ссылкой на дисциплину рассудка или ума. Он рассматривает ее не как внешнюю дисциплину, а как то, что неотъемлемо присуще самому рассудку. В свою очередь, рассудок и свойственная ему дисциплина – свидетельство того, что человеческая личность существует как целостность, способная сохранять себя самое. Человек, сохраняющий последовательность мышления и поведения, есть личность. Единство, присущее личности, Кант называет «синтетическим единством трансцендентальной апперцепции». За этим выражением скрывается не что иное, как дальнейшее развитие в новых условиях декартовского принципа cogito. Это единство самосознания, т. е. сохранение субъектом своего внутреннего, ничем внешним не обусловленного тождества: «Я» = «Я». Единство самосознания есть условие познания и свидетельство здравого человеческого ума. Пока мы люди, мы стремимся сохранить последовательность мысли, значит, мы способны быть разумными существами, способны постичь истины науки.
5. Чтобы ответить на вопрос «Как возможна наука?», необходимо представлять весь процесс познания, осуществляемого трансцендентальным субъектом, не ограничиваясь лишь формами созерцания и рассудка. Согласно Канту, вне человека существуют вещи сами по себе. Действуя на органы чувств, они порождают многообразные ощущения, которые упорядочиваются априорными формами чувственности и приобретают характер восприятий. Деятельность рассудка придает им всеобщий необходимый характер. Лишь таким путем вещи сами по себе становятся достоянием сознания субъекта и его мышления. Но этого недостаточно. Чтобы нечто могло быть познано, оно должно быть помыслено. Непомысленная вещь не может быть познана. Кант различает понятия «помыслить» и «познать». Научно-теоретическое познание имеет дело с мыслимыми предметами, например понятиями математики и математического естествознания. Как же человек мыслит нечто, чему нет прямых аналогов в чувственно воспринимаемом мире, например, такие понятия, как «число», «сила», «масса», «точка» и др? Для этого существует специальная познавательная способность – продуктивное воображение. Кант тем самым считает, что теоретическое познание предполагает конструктивную деятельность сознания. Ученый сначала мысленно конструирует нечто и затем познает то, что помыслено.
Мыслимые и познаваемые вещи – это, с точки зрения Канта, феномены или явления. За явлениями стоят «вещи сами по себе», как они есть, ноумены. Наукой познаются лишь феномены, а не ноумены, поскольку вещь сама по себе во всей своей полноте не может быть представлена в сознании. Теоретическое познание вещи самой по себе, вне конструктивной деятельности продуктивного воображения, невозможно. Данное положение вызвало множество откликов как позитивного, так и негативного толка, особенно в русской литературе. Это объясняется тем, что его выражение «вещь сама по себе» было переведено буквально и неточно – «вещь в себе». В этой связи гносеологическая позиция Канта была обозначена как агностицизм. Только в последнем издании «Критики чистого разума» (1994) был введен адекватный русский эквивалент кантовского термина – «вещь сама по себе». Редакторы и переводчики этого издания полагают: «Выражение… “вещь в себе” не только искажает кантовское понятие, но в известной мере мистифицирует его. “Бытие (чего-то) само по себе” заменяется некоей таинственностью, непонятностью, загадочностью… что не имеет ничего общего с учением Канта о “вещи самой по себе”»[200].
Познание вещи самой по себе как вещи не помысленнной невозможно. Но, по Канту, вещь сама по себе, в своей сути, непознаваема принципиально, т. е. она не может быть представлена в сознании в полном объеме. Мы познаем феномены, а не ноумены. Феноменальное знание есть знание научное, логичное, теоретическое. Это знание не обо всех, а лишь о самых существенных чертах, об общих закономерностях. Дальше этого наука идти не в состоянии. Вещи сами по себе остаются вне пределов ее досягаемости. Под вещами Кант понимал не только обычные вещи, но и мир в целом. Мир в целом непознаваем средствами науки – как и Бог, душа, свобода, принадлежащие внутреннему миру личности и изучаемые метафизикой (философией).
В современной философской литературе, если и пишется об агностицизме Канта, этот термин берется в кавычки. «Агностицизм» мыслителя основан на невозможности исчерпывающего моделирования, конструирования в наших человеческих представлениях как отдельных фрагментов действительности, так и той реальности, которая выходит за пределы «конечного» человеческого опыта – мира в целом, Бога, души. Реалии такого рода и являются у Канта ноуменами в точном теоретическом смысле понятия. Их нельзя представить в виде рефлексивно контролируемых, полностью прозрачных для самосознания «идеальных предметов», подобных концептуальным моделям и конструкциям точных наук. Любой сдвиг границы человеческого опыта не может привести к исчерпывающему поглощению «вещи самой по себе». За пределами любого моделирования реальности познавательными средствами всегда остается «нечто». И в этой идее, не позволяющей превращать в абсолют какую бы то ни было систему исходных предпосылок мироотношения человека, содержится мощный антидогматический заряд, прокладывающий дорогу к пониманию открытости таких систем[201]. В исторических же условиях своего времени Кантово проведение принципиальной грани между феноменами и ноуменами было направлено прежде всего против рационалистической утопии Просвещения, содержащей идею полного освещения действительности в «конечном» человеческом рассудке.
6. Как же возможна, с точки зрения Канта, метафизика? В человеческом познании обнаруживается определенная склонность к объединению рассудочных операций в форме идеи. В этой склонности к объединению находит свое выражение действие человеческого разума – третьей главной познавательной способности. Чистый разум, по Канту, обладает рядом априорных идей. Таких идей три: душа, мир, Бог. Именно они лежат в основе естественного стремления к объединению всего нашего познания, подчинения его единым целям и задачам. Эти идеи венчают знание, оказываются предельными идеями нашего познания. В этом смысле они обладают априорным характером. В отличие от категорий рассудка, идеи имеют отношение не к содержанию опыта, а к тому, что лежит за пределами всякого возможного опыта (трансцендентный мир). По отношению к рассудку идеи разума являются, таким образом, обозначением никогда не достижимой задачи, так как средством познания чего-либо, лежащего за пределами опыта, они стать не могут. Ведь из факта существования этих идей в нашем уме отнюдь не следует факт их действительного существования. Идеи разума имеют поэтому исключительно регулятивное значение, и, следовательно, науки, которые сделали своим предметом изучение души, мира и Бога с помощью разума, оказываются в проблематичном положении. В силу отмеченной проблематичности методы метафизических наук совершенно закономерно, а не из-за случайности или личных неудач самих метафизиков ведут к неустранимым и неразрешимым в пределах разума антиномиям. Антиномии – это исключающие друг друга равнодоказуемые суждения; к ним с неизбежностью приходит разум, пытающийся охватить мир в целом. Перед разумом возникают, по Канту, четыре космологические идеи, в которых тезис и антитезис сосуществуют на равных основаниях.
1. Тезис: мир имеет начало (границу) во времени и пространстве. Антитезис: мир во времени и пространстве безграничен.
2. Тезис: все в мире состоит из простого. Антитезис: нет ничего простого, все сложно.
3. Тезис: в мире существует причинность через свободу. Антитезис: никакой свободы нет, все совершается по законам природы.
4. Тезис: в ряду мировых причин есть некая необходимая сущность. Антитезис: в этом ряду нет ничего необходимого, все в нем случайно.
Как осмысливать кантовские антиномии? В них Кант поставил диалектическую проблему: противоречие – неизбежный момент нашего мышления. Оба противоположных суждения относятся лишь к миру явлений; в мире вещей самих по себе возможно и нечто третье. Когда Кант выдвигает какое-либо положение, он видит его границы, условность, чувствует потребность избавиться от них, чтобы связать «нечто с другим» (выражаясь языком Гегеля). Рядом с положением вырастает контрположение, без которого тезис неполон, непонятен, ошибочен. До их синтеза Кант поднимается крайне редко, но проблема поставлена, и многие мыслители, прежде всего Гегель, пытались совместить противоположности.
Среди выдвинутых антиномий самыми важными для мыслителя являются третья и четвертая. На закате своих дней, вспоминая историю возникновения «Критики чистого разума», Кант пояснял, что именно антиномии, и в частности проблема свободы, пробудили его от догматического сна и подвигли на критику разума, дабы устранить «скандал мнимого противоречия разума с самим собой»[202]. Во все положениях «Критики…» просвечивает более важная для Канта проблема – как возможна свобода человека. Свобода есть, но где она? В мире явлений мы ее не обнаруживаем, там господствует жесткая детерминация, человек свободен только в мире вещей самих по себе. Человек живет в двух мирах. С одной стороны, он феномен, с другой – он ноумен, существо сверхчувственное, подчиненное идеалу. У человека два характера: эмпирический, привитый окружением, и ноуменальный, интеллигибельный, как бы присущий ему изнутри. В поведении человека реализуется связь между двумя характерами. На этом основана вменяемость человека, его ответственность. Человек, по Канту, свободен, так как он является жителем умопостигаемого мира, в котором нет жесткого сцепления причин и следствий, там возможна причинность особого рода – «через свободу», которая только и делает человека моральным существом.
Что касается Бога, то и его можно обнаружить только в ноуменальном мире. Но о последнем мы ничего не можем знать. Канту не нужен Бог, чтобы объяснять явления природы, но когда заходит речь о поведении человека, тут, по его мнению, идея высшего существа может быть весьма полезной. Если знание о Боге невозможно, в него остается только верить. Но что такое вера? Вера определяется как низшая ступень достоверности по сравнению со знанием (хотя она и выше простого мнения). Суждения веры обоснованы только субъективной стороной, а знания нуждаются еще и в объективном обосновании. Каково же их соотношение? «Я должен был поднять знание, чтобы освободить место вере», – заявил мыслитель в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума». Кант употребил глагол aufheben, который буквально означает «поднять», но в первую очередь – «устранить», «арестовать», «ограничить». Отсюда родилась традиция обвинения Канта чуть ли не в фидеизме и обскурантизме. Однако Кант не «арестовывает» знание, он устраняет последнее из областей, ему не принадлежащих. Он высоко поднимает знание, ограждает от веры и тем самым сохраняет его в чистоте и силе. Суть идеи Канта такова: знание выше веры, но это не относится к моральной вере (это высший вид веры, предполагающий не рассуждения о Боге, а способность человека быть добрым существом), которую нельзя сопоставлять со знанием и которая реализуется в поведении. Завершая «Критику чистого разума», Кант возвращается к проблеме метафизики. Для мыслителя метафизика – мировая мудрость, «завершение всей культуры мирового разума»[203]; те, кто разочаровался в ней, рано или поздно вернутся к метафизике как к возлюбленной, с которой они повздорили.
Однако вся беда в том, что в метафизике «можно нести всякий вздор, не опасаясь быть уличенным во лжи»[204], здесь нет тех средств проверки, которыми располагает естествознание. Поэтому до сих пор метафизика не была наукой. Но у нее есть все возможности стать таковой. По сравнению с другими науками у нее есть одно неоспоримое преимущество: она может быть завершена и приведена в неизменное состояние, в ней невозможны новые открытия, неизбежные в других науках, ведь источник познания здесь не предметы внешнего мира, а сам разум, и после того, как разум полностью изложит основные законы своих способностей, не останется ничего, что он еще мог бы здесь узнать.
Кант предрекает новое рождение метафизики «по совершенно неизвестному до сих пор плану»[205]. По замыслу Канта, вся система метафизики должна состоять из четырех частей – онтологии (учения об общих принципах бытия), физиологии (учения о природе, распадающегося на физику и психологию), космологии (науки о мире в целом), теологии (учения о Боге).
Тем не менее приходится констатировать, что на вопрос, заданный в начале «Критики…» – как возможна метафизика в качестве науки? – Кант не ответил. Дальше декларирования необходимости новой научной философии он не пошел. Может быть, в этом заключается глубокий смысл: создание научной философии (метафизики) означало бы ее «смертный час», так как философское знание – это особый вид человеческого знания, не поддающийся «онаучиванию».
Категорический императив и будущее человечества. Мы уже знаем, что за основными проблемами «Критики чистого разума» скрывается гораздо более важный для Канта вопрос о свободе человека и его поведении в мире. Поэтому философ убежден в первенстве практического разума перед разумом теоретическим. Знание имеет ценность только в том случае, если оно помогает человеку стать человечнее, обрести твердую нравственную почву, реализовать идею добра. Сама философия имеет смысл лишь постольку, поскольку она служит воспитанию человека. Какая польза от философии, – задается вопросом Кант, – если она не направляет средства обучения людей на достижение истинного блага.
Здесь мы переходим к предмету следующей основополагающей работы мыслителя «Критика практического разума» (1788) – практическому разуму, или условиям возможности способности человеческого ума к моральному действию. Это сфера действия человеческой воли, направленной на овладение реальностью. Здесь Кант должен решить два вопроса: возможна ли автономная мораль и что есть «чистый практический разум», а это, в свою очередь, позволит очертить законные притязания практического разума.
Кант убежден, что этика может существовать не только как совокупность назиданий, советов, заповедей, подкрепляемых авторитетом веры. Этика может быть построена как точная наука, ее истины должны быть обоснованы самостоятельно. Нравственность должна быть универсальной, общечеловеческой. Построить этику по образцу науки – значит создать учение об универсальной общечеловеческой нравственности. До Канта такую попытку построения этики по образцу математики предпринимал Спиноза. Научная этика сходна с математикой и естествознанием в главном – ее истины должны быть необходимыми и всеобщими. А значит, они должны опираться на естественный свет человеческого разума, как на него опирается наука. Для обоснования истин этики мы не имеем права апеллировать ни к чувственным импульсам, ни к опыту.
Единство самосознания проявляется в том, что человек не может жить, находясь в противоречии с самим собой. Поскольку человек разумное существо, он способен сохранять единство собственного «Я». В этике Кант развивает следствия из декартовского cogito так же, как он делал это в учении о познании. Личность не распадается, сохраняет тождество самой себе, поскольку способна поддерживать и направлять свою волю. Из разумного постоянства воли следует, что жизнь самосознающей личности подчиняется правилам, законам, которые каждый индивид устанавливает для себя самостоятельно. Другими словами, источник морального действия заключен в правилах, законах, которые воля предписывает самой себе, ускользая тем самым от детерминации со стороны чего бы то ни было. В этом, по Канту, заключены основания автономности морали.
Здесь мы встречаемся также с важнейшей частью кантовской этики – учением об автономии личности. Автономия (от греч. autos – сам + nomos – закон) в данном случае понимается в смысле буквального перевода с греческого этого термина – самозаконность. «Дай себе закон», – призывает Кант. Иначе говоря, жизнь разумной личности невозможна без того, чтобы не следовать некоторым самостоятельно установленным правилам. Конечно, поступки, которые совершает человек и которые он оценивает с моральной точки зрения, обусловлены множеством правил (императивов). Они лишены чистоты, так как не детерминированы законом (правилом) воли. Это означает, согласно Канту, отступление от собственно нравственного характера и поступка. Последний отвечает этому характеру лишь в том случае, если обусловлен действием морального закона, автономного по своей природе. Это моральный закон – категорический императив Канта, одинаково обязательный и применимый для всех людей, поэтому общеобязательный. Категорический императив может быть таким же, как правила математики, т. е. быть чисто формальным, применимым к поведению всех людей во всякое время и во всяком месте. Категорический императив тем самым выражает понятия безусловного и всеобщего долженствования. Он столь же естествен, как закон природы, он может быть одинаково принят каждым человеком.
У Канта есть несколько формулировок категорического императива. Приведем две из них, позволяющие лучше понять существо его мысли. «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла всегда стать и принципом всеобщего законодательства»[206]. Расшифровывая это правило, Кант получает следующий вывод: «Поступай так, чтобы человечество и в твоем лице, и в лице всякого другого всегда рассматривалось тобою как цель и никогда только как средство»[207]. Несомненна близость этой формулировки к словам из Евангелия: «Не сотвори другому того, чего себе не желаешь». В отличие от евангельского измерения моральный пафос кантовского требования определялся чистым долгом. Только в долге Кант видит то, что способно поднять человека над самим собой, дать состояться ему как личности в свободе и независимости от природного механизма.
Категорический императив предполагает наличие свободы воли как свободной причины наших поступков. Безусловность и свободы воли, и бессмертия души, и существования Бога является не результатом теоретического (рационального) доказательства, а предпосылкой практического разума, точнее, морального закона. По Канту, практический разум действует именно в сфере ноуменов, в то время как теоретический находится лишь в пределах феноменов. В этом бесспорное преимущество разума практического, ибо ему способно открыться то, что недоступно теоретическому. Ноумены не обогащают сферу теоретического знания (и в этом смысле не являются теоретическими догмами), но придают идеям разума объективное значение. Утверждение свободы воли, бессмертия души и существования Бога обязано своей действительностью моральному закону, и в этом смысле религия основана на морали, а не наоборот. Так, по Канту, само существование Бога необходимо потому, что добродетель в мире, подчиненном механической причинности, никогда не будет увенчана счастьем. Справедливость, требующая воздаяния добродетели, свидетельствует о существовании трансцендентального мира со всесильным Богом, воздающим по заслугам. Философ полагает: человек не потому морален, что он верит в Бога – он верит в Бога, чтобы стать моральным. Бог необходим как гарант морального миропорядка, получения воздаяния за моральное поведение. Человек вправе на это надеяться. Кантовский категорический императив формулирует принцип безусловного достоинства личности. С его точки зрения человек не может быть принесен в жертву ни так называемому «общему благу», ни светлому будущему. Высшим мерилом отношений между людьми с позиций категорического императива является не чистая полезность, а значимость личности.
Категорический императив основан на признании важности тех свойств и признаков (прежде всего разума и свободы), по которым все люди могут быть отнесены к единой категории рода человеческого.
Трансцендентальная позиция Канта определяет, таким образом, и его понимание человеческой природы. Традиционное философское воззрение на человеческую природу включало в себя представление об изначально существующей и в принципе неизменной определенности. Ранее философы допускали возможность искажения, извращения человеческой природы, ставя в этой связи задачу восстановления ее «естественной» изначальной целостности. Никто из предшественников Канта не связывал понятие природы человека с его волей и свободой. Мыслитель решительно пересматривает воззрения своих предшественников на природу человека. Для него она вовсе не есть изначально данная и в принципе неизменная сущность. «Здесь, – пишет Кант, – под природой человека подразумевается только субъективное основание применения его свободы вообще, под властью объективных моральных законов, которые предшествуют всякому действию»[208].
Эта новая концепция человеческой природы, радикально отличной от природы всех других живых существ, органически связана с кантовским пониманием свободы как практического разума, благодаря которому личность сама формирует себя. Несмотря на природную, объективную обусловленность человеческого существа, его нравственный облик, основа которого трансцендентальна, определяется самим человеком.
Понятие внутренней свободы как чистого практического разума – центральное в философии Канта. Однако человек живет в обществе, находится в разного рода отношениях с другими индивидами. Поэтому Кант разграничивает внутреннюю (моральную) свободу и свободу внешнюю, правовую, которая может и должна быть обеспечена соответствующим государственным устройством. Это разграничение не носит абсолютного характера, так как именно категорический императив формулирует эталон справедливости, в соответствии с которым оцениваются любые правовые установления.
Гражданское общество характеризуется Кантом как такой государственный строй, в котором благодаря конституции становится возможным законодательное обеспечение свободы всех членов общества как основы для развития их способностей. Право, таким образом, выступает основой установления принципов гражданского общества. Право есть сущностное выражение условий, при которых произвол одного члена общества может быть совмещен с произволом каждого другого члена общества по всеобщему закону свободы. Такое согласование волеизьявлений граждан достигается лишь посредством законосообразного принуждения, т. е. путем применения силы, которое правомерно как выражение всеобщей воли. Принцип всеобщей воли гласит: «поступай внешним образом так, чтобы свободное пользование твоим произволом могло сочетаться со свободой каждого другого гражданина, согласно общему закону». Однако повиновение механизму государственного устройства должно сочетаться с духом свободы, так как каждый гражданин, по Канту, желает убедиться с помощью разума, что такое принуждение правомерно, ибо иначе он впадает в противоречие с самим собой. Послушание, считает мыслитель, несмотря на то, что оно носит внешний характер, есть вместе с тем и согласие с самим собой, самоопределение, свободный акт воли (повинуюсь тем законам, на действие которых в отношении меня даю согласие). Иными словами, законосообразное принуждение соответствует принципам свободы и лишь в силу этого соответствия оно собственно является законосообразным. Итак, правовой закон обладает реальной значимостью и получает публичное признание лишь постольку, поскольку он утверждается и обеспечивается посредством принуждения. Хотя границы принуждения предписываются законом, в его применении возможно злоупотребление даже в рамках правового государства.
По учению Канта, право по самой своей природе является республиканским. Республиканизм – существо правового строя, ибо только в республике осуществляется действительное объединение свободы и закона с принуждением и этим она отличается от анархии и деспотизма. Кант приходит к выводу: достижение гражданского, управляемого правовыми законами республиканского устройства общества, в котором каждый гражданин свободен в границах, определяемых свободой его сограждан, составляет высшую задачу человечества, решение которой создает основу для развития всех присущих человеческой природе творческих задатков.
Великая французская революция провозгласила общезначимые ценности человечества: свободу, равенство, братство. Примечательно кантовское исключение из этой троицы братства, так как мыслитель был убежден в изначальном зле, присущем природе людей. Человеческая природа несовместима с братством. У Канта место братства в социальной триаде занимает самостоятельность гражданина, так как только она и равенство граждан перед законом являются сущностными характеристиками человеческой свободы. Равенство членов общества как граждан, которое многим мыслителям представлялось несовместимым со свободой или, по меньшей мере, ущемляющей ее, характеризуется Кантом как необходимое условие реализации личной свободы. Ведь речь идет о равенстве прав, а значит, и о равном праве всех граждан на свободу, что отрицает любые сословные привилегии. Итак, внутренняя свобода человека осуществляется в его внешней правовой гражданской свободе, предполагающей республиканское устройство государства. Но изолированное рассмотрение государства, безотносительно к существованию других государств, совершенно недостаточно для выяснения всех условий возможности гражданской свободы. Ведь каждое государство находится в определенных отношениях с другими государствами. Международное право возникает лишь в результате обособления государств, их дистанцирования друг от друга. Следствием такого исторического процесса является противостояние государств и состояние скрытой или даже открытой войны между ними. Война между государствами есть отрицание международного права и возвращение вспять, в «естественное состояние», основные черты которого составляют беззаконная свобода и взаимная враждебность. Государства, настаивает Кант, должны отречься от своей «дикой свободы» и «приспособиться к публичным принудительным законам и образовать таким путем… государство народов, которое в конце концов охватит все народы земли»[209]. Переход к законосообразной свободе в отношениях между народами предполагает два основных условия. Первое из них есть республиканское устройство общества, при котором народу, а не правителям принадлежит решающий голос в решении вопроса, быть или не быть войне. Вторым условием является федеративное объединение государств, в котором свобода каждого государства согласуется со свободой всех других государств. Такое согласование – путь к вечному миру между народами и интеграции государств всей нашей планеты. Альтернатива всеобщего мира – вечный покой на кладбище человечества, противоестественный конец всего сущего.
Согласно учению Канта, вечный мир между народами есть не просто субъективное долженствование, но и реальная, хотя и отдаленная историческая перспектива, ибо те же причины, которые вызывают войны, ведут в конечном счете к их окончательному прекращению. Но не только спонтанный исторический процесс, но и добрая воля людей, а значит, и их свобода призваны сыграть выдающуюся роль в этом всемирно-историческом освободительном движении. Будущее человечества мыслителю представляется царством свободы.
Таким образом, трансцендентализм Канта является источником метафизики свободы и обосновывает ее совершенно новое понимание во всемирной истории, а тем самым и в будущих судьбах всего человечества.
Система философии Канта. Философия Канта в первых двух его основополагающих работах еще не преодолела пропасти между миром природы и миром свободы. Кантовской философии не хватало систематичности. Она приобрела характер системы с выходом «Критики способности суждения» (1790), посвященной эстетике – учению о красоте. Кант пришел к постановке эстетических проблем не от размышления над сущностью искусства, а от стремления довести до полноты свою философскую систему. Способности суждения отводится промежуточное место между рассудком и разумом. Она связана с чувством удовольствия – неудовольствия, которое находится между наукой и нравственностью. Выражаясь современным языком, данное чувство означает ценностную эмоцию. На этой эмоции основана эстетическая способность суждения (художественная интуиция), делающая искусство средним членом соответствующей триады – между свободой и природой. Так Кант приходит к преодолению дуализма науки и нравственности путем апелляции к художественным потенциям человека. Формула философской системы Канта – истина, добро и красота, взятые в их единстве, замкнутые на человеке, на его культурном творчестве, которое направляет художественная интуиция.
В одном из заключительных разделов «Критики чистого разума» Кант сформулировал три знаменитых вопроса, исчерпывающих, по его мнению, все духовные проблемы человека: что я могу знать? что я должен делать? на что смею надеяться? На первый вопрос, полагал он, дает ответ его теоретическая философия (метафизика), на второй вопрос – философия практическая (мораль). Ответ на третий вопрос затрагивает проблемы религиозной веры. Кант убежден, что человек не должен рассчитывать на какие-либо внешние силы, кроме собственных потенций. На помощь сверхъестественных сил надеяться непозволительно. Вера в Бога – это прежде всего надежда на собственную нравственную силу. Но при этом Кант не устраняет надежды на посмертное воздаяние. Человек вправе надеяться на торжество морального миропорядка, последним гарантом которого является Бог.
Однако в конце своего творческого пути Кант пришел к выводу о необходимости дополнить три основных философских вопроса четвертым – что такое человек. Он утверждает: «…в сущности… три первых вопроса относятся к последнему…»[210], т. е. всю философию можно, по его мнению, свести к антропологии. Таким образом, первое и последнее слово Канта – о человеке. Его критицизм в значительной мере порожден интересом к жизни личности. Не случайно поэтому последней работой, изданной самим мыслителем, является «Антропология с прагматической точки зрения» (1798). Здесь он как бы подводит итог размышлениям о человеке и вообще всем своим философским поискам. Это завершение пути. В «Антропологии…» идеи кантовской философии соотнесены с миром человека, его переживаниями, устремлениями, поведением. Человек для Канта – «самый главный предмет в мире»[211]. Над всеми другими существами его возвышает наличие самосознания. Благодаря этому человек может состояться как человек, причем для него «работа – лучший способ наслаждаться жизнью»[212]. Чем больше ты сделал, тем больше ты жил. Единственное средство быть довольным судьбой – заполнить свою жизнь деятельностью. Кант писал эти строки, когда ему шел семьдесят пятый год, между тем думает он только об одном – о совершенствовании своего учения, об обогащении его антропологическим содержанием. В этом весь Кант.
Философия Канта выступила и как своеобразное завершение Просвещения, и как система, преступившая границы этой эпохи и положившая начало немецкой классической философии.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК