Мистический реализм Д.С. Мережковского
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866–1941) родился в семье придворного чиновника. После окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета он начинает свою деятельность как поэт и ведущий теоретик русского символизма.
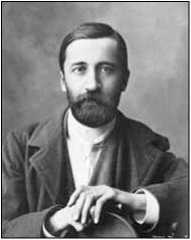
Д.С. Мережковский
Философски-эссеистическое осмысление мира приводит Мережковского к созданию сборника статей «Вечные спутники» (1897). «Вечные спутники» – это деятели философии и культуры (Марк Аврелий, Сервантес, Монтень, Пушкин и др.), духовное наследие которых, по мнению автора, определяет развитие человечества. Персонификация духовного освоения мира и обоснование основополагающих констант его бытия и развития реализованы в двухтомном труде «Толстой и Достоевский» (1901–1902), в котором мир рассматривается как борьба двух начал – плоти и духа. Пророком первого начала для Мережковского является Л.Н. Толстой, второго – Ф.М. Достоевский. Осмысление мира как метафизической борьбы двух взаимоисключающих и взаимопоглощающих начал – добра и зла – воплощено в трилогии «Христос и Антихрист» (1896–1904).
Мережковский – один из создателей и активных участников «Философско-религиозных собраний» в Петербурге (1901–1903) и журнала «Новый путь». Он активно участвует в общественной борьбе начала века, критически оценивает революционные события и роль интеллигенции в них («Грядущий Хам»). Революцию 1917 г. Мережковский и его окружение категорически не приняли.
В результате мыслитель эмигрировал на Запад, где создал исторические и философские романы-размышления («Рождение богов», «Иисус Неизвестный»), биографические романы («Наполеон») и др.
Философ был твердо уверен, что Россия преодолеет большевизм, духовно возродится и продолжит выполнение своей исторической миссии «спасения мира».
Приступая к анализу философских воззрений Мережковского, следует учитывать, во-первых, особенности языка его произведений; во-вторых, тип его методологических доказательств; в-третьих, характер эволюции его мировоззрения. Мережковский всегда оставался писателем, поэтическое мышление которого тяготело к художественно-образной выразительности. Даже тогда, когда его произведения в той или иной мере касались научных, рационалистически осмысляемых проблем, образное обобщение зачастую господствовало в них, превращая изложение теории и ее доказательств в индивидуально-ассоциативную художественную ткань текста. Это закономерно, ибо он, не считая себя философом, не стремился «довести мысль до окончательной ясности»: «Я только описываю свои последовательные внутренние переживания» (Мережковский). Отсюда обилие многоплановых символов, пластичность и чувственность в описаниях, противоречивость аргументов и доказательств, свидетельствующих о постоянном стремлении к экзистенциальной рефлексии, фиксирующей внутренние переживания и ощущения автора. Публицистический задор русского мыслителя усугубляет эти тенденции. Мережковский постоянно оперирует понятиями, которые сам же и изобретает, далеко не всегда логически и фактологически их обосновывая: «догматический идеализм», «догматический материализм», «мистический материализм» и т. д. Как бы стремясь скрыть свой «понятийный мистицизм», Мережковский чаще всего находит логическую опору в рассуждениях, в триадном построении доказательств. Однако триадная логика, разработанная в философской системе Гегеля, под пером русского мыслителя зачастую превращается в понятийную эквилибристику, внешне имеющую наукообразную форму: «тезис – плоть, антитезис – дух, синтез – духовная плоть». Пользовался ею Мережковский искрометно, увлекательно, а порой и продуктивно, хотя его мистический символизм превращает аргументацию такого рода в некий словеснопонятийный орнамент, имеющий скорее эстетическую, нежели философскую ценность. Следует постоянно помнить и то, что русский мыслитель прошел длительный и противоречивый путь мировоззренческой эволюции. Поэтому общий абрис его мировоззрения суммарно выглядит далеко не так, как на каждом конкретном ее этапе. Будучи одним из главных идеологов «нового религиозного сознания», Мережковский был твердо уверен в том, что в основе этого общественного движения должна лежать правильно понятая христианская философия – точнее, ее православный («истинный» вариант». Отсюда постоянное присутствие в его произведениях сюжетов, связанных с языческой предысторией христианства, становлением христианства как культурной парадигмы, определяющей европейское развитие, противоречиями и борьбой внутри христианской теологии и философии, ролью и местом христианства в XX в.
Мережковский теологичен, поскольку антропологичен: он пытается найти и сформулировать сущностные законы человеческого бытия, постоянно обращаясь к трансцендентному Богу, который является вочеловеченным, реализованным в человеке и человечестве. Исторические, человеческие, т. е. общественные, проблемы интересуют его в первую очередь. В центре его мировоззрения несколько концептуальных идей: развитие всемирной истории как борьбы Христа и Антихриста, диалектическое единство и борьба плоти и духа как исторических констант, смысл и значение исторического христианства в футурологической перспективе. Все эти проблемы диалектически объединяются в единую концепцию, объясняющую смысл и значение истории.
Христианство в этой концепции возникает и формируется во времени и пространстве, борясь с язычеством, с античностью. Античное язычество исторически и есть культ плоти, который отвергается культом духа, свойственным христианству. Но «правда земли» и «правда неба» (Мережковский) не просто отрицают, но и одновременно утверждают друг друга. Истинная религия (христианство) призвана «принять» и «освятить» человеческую плоть, слить в едином синтезе земные и духовные закономерности человеческого бытия и развития. Это слияние примирит земные, материальные процессы с духовными, идеальными закономерностями, гармонизирует отношения культуры и религии. Последняя, наконец, «найдет Святую Плоть», что будет означать новое и окончательное «христианское Возрождение». «Кажется, второе возрождение с этого и начинается», – писал Мережковский. Это приводило философа к последовательной критике русского православия с его культом аскетизма, монашества, ухода от мира сего, что в свою очередь предопределяло неприятие и критику идей Мережковского представителями русской православной церкви.
Диалектика плоти и духа, по мнению мыслителя, исторически развиваясь, определяет разные этапы развития человечества. В излюбленной своей манере – посредством триад – описывает этот процесс русский мыслитель: язычество является исходным тезисом, которому в качестве антитезиса противостоит церковное христианство, миссия которого уже исчерпана. Необходим синтез, который будет реализован в Третьем Завете, свидетельствующем о наступлении нового, истинного периода развития человечества, который будет регламентироваться новой религией «плоти и духа». В результате мирская и религиозная жизнь сольются, снимая все трагические противоречия человеческого бытия и открывая «сверхисторическую» стадию развития человечества.
Все это будет закономерным результатом самопознания человека, в котором реализуются его научные, религиозные и мистические достижения. Мережковский всегда понимал и подчеркивал роль науки как инструмента познания и описания действительности. Отсюда проистекает и уважение Мережковского к эмпирическому познанию: он высоко ценил возможности познания реального мира и роль разума в его реализации, приближаясь в этом вопросе к кантианству, но принципиально не принимал «бесплотный идеализм» с его третированием реальности. Критически дистанцируясь и от материализма, и от идеализма, Мережковский называл свою философскую позицию «мистическим реализмом», тем самым подчеркивая сверхразумность истинного познания и реалистичность исходных концептуальных подходов, которые в совокупности не только позволяют познать мир и человека, но и преобразовывать последние[381].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК